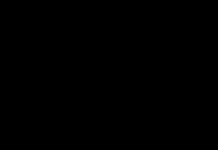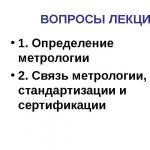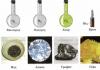АКТЕРСКИЕ АССОЦИАЦИИ I 16+
РЕЖ.: ВЕНИАМИН ФИЛЬШТИНСКИЙ
АКТЕРСКИЕ АССОЦИАЦИИ
Новая и неожиданная версия чеховской "Чайки" в постановке выдающегося мастера, режиссера и педагога Вениамина Фильштинского.
Режиссер сокращает количество персонажей. На первый план он выводит историю жизни и любви Кости Треплева. Перед нами возникает живой, рефлексирующий и ранимый человек, переживающий потерю любви и творческий крах. Актеры исследуют своих персонажей, а заодно и самих себя, дописывая историю, выявляя тайные мотивы, и делают удивительные открытия.
РЕЖИССЕР: ВЕНИАМИН ФИЛЬШТИНСКИЙ
ХУДОЖНИК: АЛЕКСАНДР ОРЛОВ
ЗВУКОРЕЖИССЕР: ЮРИЙ ЛЕЙКИН
ХУДОЖНИК ПО СВЕТУ: ВАСИЛИЙ КОВАЛЕВ
ПОМОЩНИК РЕЖИССЕРА: КСЕНИЯ ЖУРАВЛЕВА
В РОЛЯХ: н.а. России АННА АЛЕКСАХИНА, н.а. России ВАЛЕРИЙ ДЬЯЧЕНКО, АННА ДОНЧЕНКО, АЛЕКСАНДР КУДРЕНКО
СЦЕНАРИЙ С АКТЕРСКИМИ АССОЦИАЦИЯМИ I ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 ЧАСА С ОДНИМ АНТРАКТОМ I 16+
АРТ-ЖУРНАЛ
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
ДЕЛОВОЙ ПЕТЕРБУРГ
"Спектакль все время балансирует между тем, чтобы заставить верить в придуманных людей, и обнажением приема, показом того, из чего создается сладостный обман. И делает это столь виртуозно, что придется согласиться: без театра такого уровня и правда нельзя..."
"В какой-то степени это спектакль – работа с ролью. Актеры то и дело выходят из роли, как бы осматривая ее со стороны, иной раз даже иронизируют по поводу своего персонажа."
"Прозвучавшая в начале аксиома о необходимости сценического искусства, о его притягательности опять доказана. И опять удачно. А иной вариант и невозможен."

АРТ- ЖУРНАЛ "ОКОЛО"
Свой вариант вечной чеховской пьесы "Чайка" поставил в Таком театре режиссер Вениамин Фильштинский. Спектакль называется "Костя Треплев. Любовь и смерть", и уже из названия ясно, что пьеса представлена не полностью, а акцент смещен на конкретного персонажа.
Из чеховской пьесы режиссер оставил лишь четырех персонажей - Аркадину (Анна Алексахина), Нину (Анна Донченко), Сорин (Валерий Дьяченко) и Костю Треплева (Александр Кудренко). Главный герой здесь Костя Треплев, а в основе спектакля его история от дебютной пьесы до самоубийства.
Формула "театр в театре" у Фильштинского вошла в какую-то увеличенную степень. Анна Алексахина играет актрису, рассказывающую о своей роли Аркадиной, после чего играет Аркадину, а та постоянно играет отрывки своих ролей. Все это какой-то бесконечный театр, в котором роли накладываются друг на друга, и «докопаться» до жизни сквозь бесконечную игру кажется невозможным.
Сплошная игра и отсутствие реальной жизни - вот что окружает Треплева. Он все время пытается понять, что такое театр, и спасает ли он от реальной жизни? А спастись от жизни ему просто необходимо. Театр отбирает у него любимых людей. Мать, которую он так нежно любил, пропадала на сцене, даже когда он был болен и так нуждался в ее заботе. Он полюбил Нину Заречную, но и ее забрал театр. Она уехала в Москву в след за Тригориным. Там она сломала свою жизнь, мечты о карьере, а вместе с тем и надежды Треплева. Его "декадансная", как ее называет Аркадина, пьеса - вызов тому театру, который рушит его жизнь.
Замученный, заикающийся Костя Треплев в свои 25 похож на маленького ребенка, смотрящего снизу вверх и не понимающего, что происходит вокруг. Он бросается по черной скамье, стоящей в центре сцены, бегает вокруг нее - лишь в этом весь его протест. Он как будто скован и не может вырваться как за пределы этой скамьи, так и за пределы своего отчаяния.
Истории Заречной и Аркадиной здесь лишь фон. Они не так интересны режиссеру, ведь они уже сделали свой выбор и идут по выбранному пути. А Костя ищет себя в этой жизни, ищет спасение от нелюбви. Он постоянно гадает на ромашках, снова и снова твердит заветное "любит - не любит", но каждый раз останавливается на "не любит". Останавливается, опускает голову, сутулится - он устал от этой "нелюбви". Он устал ждать, просить и с каждым холодным безразличием по отношению к нему, опускает голову все ниже, и все надрывистее говорит.
Пара сцен буквально визуализирует то, что происходит в его голове - суета и давящий шум. Черное ядро с встроенным внутри микрофоном, катаясь по полу, создает этот жуткий шум. А в движение это ядро приводят Аркадина и Заречная, перекатывая его друг другу из противоположных сторон сцены. Эти два человека, две женщины, две актрисы зародили в нем любовь, но не дали ничего взамен. Они постоянно в его мыслях, но сами каждый раз входят в комнату, не замечая его. Они смотрят на него и на его рефлексии как бы со стороны.
В какой-то степени это спектакль - работа с ролью. Актеры то и дело выходят из роли, как бы осматривая ее со стороны, иной раз даже иронизируют по поводу своего персонажа. "В комнате, как видите, он находиться не мог", - пожимает плечами Кудренко после сцены с перекатыванием ядра, комментируя своего персонажа. Творческие неудачи Треплева в спектакле отходят на второй план. Кудренко, в очередной раз сняв очки и выйдя из роли, поясняет - причина краха опять-таки в отсутствии любви. К Косте нет любви, и нет веры в него. И даже после смерти он остается один. Аркадина манерно читает монолог трагическим голосом, а потом оставляет его одного на сцене, усаживаясь в зрительный зал.
| П Е Р Е Й Т И |

"ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ"
Помнится, в октябре Экспериментальная сцена под руководством Анатолия Праудина представила спектакль "Дядя Ваня". Работа актера над ролью", где артисты, по словам М. Дмитревской, разыгрывая пьесу, "сочиняли биографии ролей, ту жизнь, которая не написана Чеховым, но прожита его героями".
Нечто подобное мы видим и в новой работе Вениамина Фильштинского. На край сцены выходят актеры, от своего лица говорят о природе и необходимости театра, а затем на наших глазах становятся "другими" - начинается представление. В качестве отправной точки взят все тот же А. П. Чехов, "Чайка". Классический текст подвергся серьезной редакции, превратившись из пьесы в "сценарий по пьесе с актерскими ассоциациями" (автор "ассоциаций" - Александр Кудренко). Вместо тринадцати действующих лиц - четыре: Константин Треплев (Александр Кудренко), Нина Заречная (Анна Донченко), Ирина Аркадина (Анна Алексахина), Петр Сорин (Валерий Дьяченко). Их реплики даны без сокращений, правда, с небольшими вкраплениями других текстов, намек на которые содержится в пьесе. Ирина Николаевна нет-нет, да и затянет на французском монолог из "Дамы с камелиями" или прикинется Гертрудой, а Костя вдруг прошепчет пастернаковское "Гул затих…", по-видимому, отдавая дань Высоцкому в роли Гамлета, или ввернет цитату - вслед за матерью - из шекспировского оригинала.
Весь остальной чеховский массив либо дается в пересказе персонажей, либо умалчивается. О Полине Андреевне, Дорне, слугах - ни слова, зато Сорин долго и подробно, вникая во все обстоятельства, повествует о том, кто такая Маша и почему она пьет; Аркадина вечно бегает за Тригориным, вечно его не догоняет, теряет, злится; Нина тоже все говорит, говорит, говорит о том же Тригорине, но не с раздражением или досадой, а больше с восторгом и нежностью. И только Костя сосредоточен на себе. На собственных страхах и комплексах. Чуть сутулый, в круглых черных очочках, коротковатом сюртучке, крепко прижимающий огромный черный портфель, в котором хранится его сокровище - та самая заветная пьеса, - он очень напоминает мальчика-гимназиста, заумника и отличника. И неудачника. И мечтателя. И романтика. И маменькиного сынка.
В исполнении Александра Кудренко он таков и есть. Заикающийся, нерешительный, неуверенный в себе. Он не смеет поверить в свою нужность матери, проверяя ее любовь гаданием на ромашке. Меж тем, Ирина Николаевна держит его крепко. Давление ее настолько велико, что Костя и во снах несвободен: Аркадина является сыну даже в грезах и - душит.
Константин Гаврилович мать ненавидит. Константин Гаврилович боготворит и обожает мать. С этим чувством "или-или" Треплев и живет. Это его "пуд", его личная гамлетовская дилемма. Дилемма номер один. А дилемма номер два - "либо-либо": либо мама, либо Нина. Так он и мечется, не смея примкнуть ни к той, ни к этой, во снах поочередно обнимая обеих. Но то - сны…
Несмотря на резкие перепады настроения, переходы от шепота к крику, Треплев - душа до крайности трепетная. Нежная и ранимая. Он не терпит, не переносит ссор. Ему бы - компромисс. Компромисс, известное дело, невозможен. Потому - три выстрела: в чайку, потом в собственную голову - сначала неудачно, потом смертельно.
Написанная для Нины, а затем разыгранная в саду пьеса, по сути, сделана Костей для матери. Не только позлить ее или уколоть (как это обычно трактуется), а скорее - порадовать. Но Ирине Николаевне и дела нет до чувств сына. Анна Алексахина, шурша шелками, выдыхая сигаретные туманы, гремя браслетами, сверкая серьгами, поблескивая кольцами, садится в зрительный зал и от имени Аркадиной начинает комментировать происходящее на сцене, отвлекая внимание публики от основного действа: она тут королева-мать, она прима, принятая с успехом в Харькове, - все должны это помнить.
А на сцене - вся в клубах дыма - сидит заметно беременная Нина. Фоном дан гул проходящих поездов, чьи-то голоса. Вдруг все замирает, и Заречная растерянно, жалобным голосом начинает знакомый монолог: "Люди…" Она выбегает из зала, но, никого не найдя, возвращается и, корчась от боли, прижимая руки к животу, продолжает текст уже о "мировой душе", что хранится в самой ее глубине. Беременность Нины - это одновременно режиссерский кивок Фильштинского в сторону и погибшего ближе к финалу чеховской пьесы ребенка Заречной от Тригорина, и несостоявшейся карьеры: Заречная словно вечно беременна этой самой первой, дарованной Костей, ролью, из которой так и не вышло новой - актерской - судьбы. Это и есть «пуд» Нины: либо Тригорин, либо актерство. А в итоге - "небольшой рассказ о погубленной жизни".
Выбор Аркадиной - либо Тригорин, либо Треплев; либо игра, либо жизнь; либо актерство, либо любовь. В результате - тоже ничего: Тригорина никогда нет рядом, сын погиб, карьера идет на спад. Последние слова Аркадиной, которые она произносит у постели мертвого Кости, шекспировские: "Мой сын! Ты очи обратил мне внутрь души, и я увидела ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах - нет спасенья!" Подлинное страдание, страдание матери, возможно только в игровой форме, и правда - нет спасенья. У этой задачи нет решения.
Среди странных, изнывающих от любви, тоски и гнева героев один Сорин - чудак-человек. Тихий, интеллигентный, спокойный. Он лукаво наблюдает за происходящим, особо никуда не вмешивается, ибо знает: ничего не изменишь. Потому он просто любит. От всего сердца, по-христиански, не требуя ответа. Брат понимает властолюбивую сестру и прощает ей эгоизм и гордыню; он жалеет недотепу Костю и стремится помочь в сценических опытах; по-отечески Сорин сочувствует Нине и мифической Маше. У него огромное сердце, бесконечная любовь - это и есть его крест, его "пуд". Потому не выдерживает к финалу и Петр Николаевич: надрывается, заболевает, и заболевает сильно.
Весь спектакль актеры говорят о театре, играют в театр, произносят оригинальный текст Чехова, вставляют свои - придуманные, выученные и отрепетированные - реплики. И делают это, спотыкаясь, приподнимая, переставляя огромные черные шары - такие, какими обычно играют в боулинг. Метафора того груза, что мешает самим и убивает, сбивает с ног других, рядом стоящих. Но ведь происходящее - как бы понарошку, как бы не всерьез, как бы игра. "Это же театр - не жизнь", - возвращают зрителей к заданной теме артисты. И все же, когда лежит уже мертвый Треплев, а из-под покрывала торчат его босые ноги, когда постепенно уходит свет, а Аркадина от имени Гертруды заводит речь о "смертельных язвах", ты вдруг неожиданно обнаруживаешь: и твои глаза давно смотрят "внутрь души", и там тоже далеко не все в порядке… И прозвучавшая в начале аксиома о необходимости сценического искусства, о его притягательности опять доказана. И опять удачно. А иной вариант и невозможен.
| П Е Р Е Й Т И |

9 апреля на сцене мемориального музея Ф.М. Достоевского труппа Такого театра представила на зрительский суд свою версию бессмертной чеховской "Чайки". Сами создатели спектакля определяют этот проект, как "сценарий по пьесе А. П. Чехова "Чайка" с актерскими ассоциациями". Режиссером-постановщиком выступил В. М. Фильштинский, известный театральный педагог. В спектакле заняты актеры Александр Кудренко (Треплев), Анна Донченко (Заречная), н.а. России Анна Алексахина (Аркадина), н.а. России Валерий Дьяченко (Сорин). Указанная четверка и рассказывает зрителям историю незадачливого литератора Константина Треплева, повествуя о его жизни, любви и смерти. В данном спектакле все внимание режиссера сконцентрировано именно на этом герое, он выведен на первый план, что и отличает в некотором смысле версию Фильштинского от канонической постановки.
Перед началом представления сами актеры, еще не будучи в образах, начинают общение с публикой. "Можно ли обойтись без театра? Каким должен быть театр? Вы завидуете артистам?" - такие вопросы звучат от актеров. Наконец, они сами отвечают собственно чеховской цитатой: "Если в обществе любят артистов - это идеализм".
И спектакль начинается. Сценография довольно скромна, если не сказать аскетична. Перевернутая скамейка (на протяжении всего спектакля она важнейший элемент действия), столик в углу, пара стульев и корабельная рында, висящая на заднем плане. Начинающий драматург Костя Треплев (ему 25 лет, но назвать его полным именем Константин как-то не поворачивается язык, настолько он робок, нерешителен и застенчив) сетует на нелюбовь со стороны родной матери. Треплев жаждет представить на зрительский суд пьесу собственного авторства с молодой актрисой Ниной Заречной в главной роли. Ему важно получить материнское одобрение, кроме того, он влюблен в Нину и жаждет добиться ее расположения. Но Аркадина в пух и прах разносит его драматургические способности, а Нина Заречная уже отдала свое сердце популярному литератору Тригорину.
Во второй части спектакля мы встречаемся с героями спустя два года. Литературная карьера Треплева неожиданно идет в гору: он предстает перед зрителем талантливым прозаиком, автором популярных рассказов. Но во всем облике его проскальзывают черты прежнего неудачника Кости. Аркадина верна своим привычкам и эмоциям. Она горда за Константина, но при этом ей недосуг читать его рассказы. "У меня на это совершенно нет времени! Я принадлежу театру, зрителям!"- с улыбкой заявляет она. Неожиданное появление в усадьбе Нины Заречной приводит героя в смятение. Нина многое пережила за это время: предательство, безденежье, разочарование. Но, несмотря на все неурядицы, она уверена в себе, в своем будущем. "Неси свой крест и веруй",- говорит она Треплеву. Действительно, вера живет в ее душе и придает ей силы. А Треплев не знает, чего хочет от жизни. Кроме того, Нина продолжает любить Тригорина, причинившего ей так много боли и страданий. Это окончательно выбивает главного героя из колеи, и все становится пустым, глупым и бессмысленным. Вторая попытка застрелиться оказывается для Кости Треплева удачной…
Сложно сказать, кто из героев прав и является положительным, а кто наоборот. То Треплев вызывает жалость своей невезучестью, неуклюжестью и одиночеством, то становится очевидным его бесталанность как автора. Нельзя однозначно оценить и характер Аркадиной. Кто же она: эгоистичная артистическая натура, привыкшая в прямом и переносном смысле работать на публику, несчастная женщина, которая жаждет любви, мать, которая любит своего сына полутиранической слепой любовью? Непросто понять, чего хочет от жизни Нина Заречная. Славы и признания зрителей, любви и банального счастья? Создается тупиковая ситуация: по отдельности никто не виноват в бедах и несчастьях друг друга, но в то же время виноваты все. То Треплеву не хватает смелости объясниться с Ниной, то Аркадина не может прекратить критиковать сына, то Нина не в силах порвать с Тригориным. Что-то неуловимое каждый раз мешает героям быть счастливыми. Сорин же выступает сторонним наблюдателем все этих драм и перипетий. Он пожилой человек и уже далек от столь яростных чувств и эмоций; жизнь его медленно движется к финалу.
Актерские работы в данном спектакле действительно заслуживают восхищения. Потрясающе достоверен Александр Кудренко в главной роли; его Треплеву веришь и сопереживаешь. Органична и естественна Анна Донченко в роли Нины. Замечательно хороша Анна Алексахина, исполняющая роль Аркадиной. Кажется, что это героиня просто создана для актрисы. Видно, что ей самой, как и Аркадиной, приятна зрительская любовь, она по-настоящему служит театру. Валерий Дьяченко - Сорин также мастерски раскрывает образ своего персонажа, по-актерски точно и органично уходит в тот или иной момент на второй план.
Костюмы героев как нельзя лучше подчеркивают характер персонажей. Треплев носит тесный пиджак, в карманы которого то и дело прячет руки. Выглядит он в нем смешно и нелепо. Очки лишь дополняют этот образ неудачливого недотепы. Его мать Аркадина - любительница длинных платьев из струящихся тканей, пестрых платков, перчаток, браслетов и колец. Она настоящая светская дама, стремящаяся произвести впечатление на окружающих. Внешняя сторона играет для нее первостепенную роль. Радостная и влюбленная юная Нина носит нежно-розовое платье, а после всех испытаний мы видим ее уже в бесформенном черном наряде. Сорин одет скромно и довольно невзрачно: костюм, поношенная шляпа. Заурядный костюм человека, прожившего скучную жизнь.
Совершенно, казалось бы, неожиданным образом, в данной постановке сюжет "Чайки" идейно перекликается с бессмертной шекспировской трагедией. Треплев отчаянно похож в своих страданиях и исканиях с Гамлетом, его отношения с матерью также развиваются по линии "Гамлет - Гертруда", его антипатия к Тригорину сравнима с гамлетовской ненавистью по отношению к Клавдию. Режиссер подчеркивает идейное родство двух великих пьес финальной сценой. Узнав о гибели сына, Аркадина облачается в траур и читает строки из монолога Гертруды. Она актриса, она привыкла именно так выражать свои эмоции.
В этой пьесе жаль всех. Вызывают сострадание как юная Нина, заложница своих чувств, так и зрелая женщина Аркадина, рабыня своего ремесла. Искреннего сочувствия заслуживает старик Сорин, понапрасну растративший свою жизнь. Но больше всего, конечно, до слез, жаль молодого Константина, Костю Треплева. Он прожил недолго и несвободно, но, тем не менее, в жизни его была любовь. А потом пришла смерть. Виноваты все. И при этом никто не виноват…
Неоднократно пьесу Антона Павловича зрители видели на различных театральных подмостках. В своем варианте Вениамин Фильштинский, как скульптор, работающий с многообещающей глыбой мрамора, отсек от текста Чехова все, что считал лишним, вывел на сцену всего четырех главных персонажей и добавил актерские ассоциации на тему театра и почему без него нельзя.
Вопрос о личности Константина Треплева и его идейных размышлениях относительно театра и новых форм существует давно. Многие художники театральных подмостков рассуждали на эту тему, у каждого складывается собственное мнение по этому поводу, подкрепляется это все и сборниками научных работ литературо - и театроведов.
В Музее Ф. М. Достоевского у зрителей была возможность увидеть другого Костю Треплева и осознать, как тяжело жить, когда главного героя окружает тотальная нелюбовь.
Нелюбовь матери, известной и самовлюбленной, но не без доли добросердечности и сочувствия к другим, актрисы, нелюбовь нежной Нины, нелюбовь других людей к его литературным начинаниям и революционным идеям по отношению к театральным формам. Костя Треплев отчаянно пытался найти ответное чувство и увидеть в глазах близких искру понимания. Все чаще, убегая в своих мыслях в детство, где он ощущал любовь матери, ласку, нежность ее рук и голоса, Костя осознавал тяжелую и безответную реальность настоящего.
Спектакль "Костя Треплев. Любовь и смерть", подобно ассоциативной картине художника, рассказывает версию режиссера Вениамина Фильштинского о жизни героя из пьесы Антона Павловича Чехова. Свободная работа с текстом великого русского классика и сочетание уместных актерских импровизаций сделали спектакль интересным для зрителей и заставляющим сопереживать главному герою, а, главное, понять, почему Костя Треплев со второй попытки все-таки всадил себе пулю в голову.
Интересные режиссерские находки Вениамина Фильштинского вовлекли зрителей в происходящее с самого начала спектакля. После того, как закрыли двери, на сцену вышли актеры, чтобы поговорить с людьми в зале о своих героях, которых они через несколько минут начнут играть, и совместными усилиями найти ответ на вопрос: "Без театра нельзя?".
Всего четыре человека на сцене смогли заполнить зал энергией и передать настроение пьесы Чехова. Актерам было интересно играть в спектакле и по причине того, что отчасти они исследовали и себя, когда рассуждали о героях и выносили им некий профессиональный приговор.
Еще одна причина, которая убеждает посмотреть спектакль - это точно подобранный актерский состав. Убедительно играет Аркадину и передает ее черты и характер народная артистка России Анна Алексахина, а ее родного брата, "человека, который хотел", зрители увидели в талантливом исполнении народного артиста Валерия Дьяченко. Долгих аплодисментов заслужили своей игрой Александр Кудренко, исполнявший роль главного героя Константина Треплева, и Анна Донченко, в лице которой зрители увидели Нину.
Спектакль "Костя Треплев. Любовь и смерть" показал зрителям рефлексирующего и ранимого человека с творческими задатками, но не встретившего на своем пути настоящую любовь и веру других людей в его способности. Весь спектакль актеры исследуют своих героев, а заодно и самих себя, доказывая зрителям, что как на сцене, так и в жизни - без театра нельзя!
В июле Вениамину Михайловичу будет 78, всю свою долгую жизнь он ставит в театре и учит ему - и вот наконец решил с театром разобраться. Пьесу выбрал соответствующую: в ней, как известно, главная героиня - актриса опытная, есть еще актриса начинающая, сын героини пытается стать драматургом, имеется писатель - не исключено, что он (как сам Чехов, который отдал этому Тригорину некоторые свои черты и мысли) сочиняет не только прозу, но и драмы-комедии, да и вообще о театре и об искусстве, - едва не половина "Чайки".
Треплев произносит знаменитую филиппику про то, как ему гадко, когда на сцене едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки, его дядя Сорин отвечает: "Без театра нельзя". Собственно, спектакль представляет собой исследование художественными средствами: в самом ли деле без театра нельзя? А может, без этого учреждения, проникнутого пошлостью и фальшью, лучше обойтись? Но театр может быть еще и вместилищем высокого профессионализма. "Носить пиджаки", то есть создавать эффект полного жизнеподобия, некоторые умеют с большим мастерством, как, например, Валерий Дьяченко - Сорин.
Фильштинский - ярый приверженец системы Станиславского, одну из важнейших частей которой, этюдный метод, демонстрирует его спектакль. Суть метода в том, что актеры должны не прикидываться персонажами, но проникнуть в их психологию, присвоить текст так, чтобы он казался рождающимся в этот момент, чтобы совершенно органичными стали чужая речь, пластика, костюм, характер. Этюды - питательная почва, из которой вырастает образ.
Так вот, здесь перемешан текст чеховский с "ассоциативными текстами", которые сочинил Александр Кудренко, играющий Треплева. Он рассказывает, что делается в душе его героя и что происходило с ним между эпизодами, во внесценической жизни. И Анна Алексахина к репликам Аркадиной прибавляет множество собственных, напрямую адресуясь к зрителям и присаживаясь прямо в первый ряд. Актриса извлекла эссенцию из своего многолетнего опыта, знания про театр: про то, как с годами актерство въелось даже не в кожу, а в генотип, эта профессиональная деформация души приводит к тому, что самые искренние жизненные переживания все равно играются…
Режиссер последовательно анатомирует театральные иллюзии. Художник Александр Орлов поставил в маленьком черном зальчике музея черную же скамью с высокой спинкой, как в зале ожидания на вокзале, повесил пару черных кулис, которые ничего не скрывают - в частности, видны стоящие сбоку на полу вентилятор и дымовая машина. Нина - Анна Донченко, когда ей надлежит стать Мировой душой из пьесы Треплева, подкладывает себе огромный живот - она на сносях, а Треплев на наших глазах включает ветер и дым: Мировой душе предстоит разродиться на лавке под вокзальную какофонию…
Спектакль все время балансирует между тем, чтобы заставить верить в придуманных людей, и обнажением приема, показом того, из чего создается сладостный обман. И делает это столь виртуозно, что придется согласиться: без театра такого уровня и правда нельзя.
А.П.Чехову - 150 лет
По справедливому замечанию исследователя, пьеса Константина Треплева о Мировой душе является высшей точкой, некоей нравственно-философской вершиной, с которой обозреваются поступки, речи и мысли всех персонажей "Чайки"1/. Небольшой по объему монолог Нины Заречной оказался исключительно емким с точки зрения конденсации художественных и философских идей, восходящих к Книге Бытия, размышлениям Марка Аврелия, к сочинениям современных Чехову мыслителей - Вл.Соловьева, А.Шопенгауэра, к текущей беллетристике (Н.Минский, Д.Мережковский) и другим источникам 2/. Правомерно поставить и более частный вопрос: почему именно Константин Треплев являет в пьесе свои драматургические способности? Исчерпаны ли перечисленными литературными изданиями истоки его вдохновения? Частично на этот вопрос отвечают наблюдения В.Звиняцковского, показавшего, что возможным прототипом образа Треплева явился «киевский мещанин» Виктор Бибиков, один из зачинателей отечественного литературного декаданса 3/.
Для более полного ответа, очевидно, потребуется произвести некоторый мыс¬ленный эксперимент и представить Треплева в качестве самостоя¬тельной, суверенной личности, живущей и творящей в пьесе по соб¬ственной воле, исходя из собственных психофизических качеств. Ясно, что в тяге молодого человека к творчеству проявилась опре¬деленная наследственность: мать - талантливая актриса; отец - киевский мещанин - тоже актер. Родной дядя - Сорин - в молодости мечтал стать писателем и, вероятно, имел для этого какие-то осно¬вания. У него обширная библиотека, он подсказывает Константину сюжеты... О человеке, «который хотел», но – увы – так ничего и не добился...
Другой существенный фактор - состояние влюбленности, переживаемое Константином. Влюбленной молодости свойственна романтичность, а в случае с Треплевым она усугублена оторванностью от внешнего мира, вынужденным безденежьем и прозябанием в деревне. Отсутствие жизненных впечатлений поневоле толкает творческую фантазию, пи¬таемую любовными переживаниями, к абстрактности, книжности, к возведению собственного одиночества и собственного стремления к сближению с Ниной в масштабы космические... Среди духовной пусты¬ни видится грядущее "слияние душ" влюбленных - не об этом ли го¬ворит Медведенко, не это ли чувствует всепонимающий док¬тор Дорн?
Теперь дело только за конкретным сюжетом, на который можно было бы "наложить" видения и сны Константина Треплева. Источником сюжетов - при бедности внешних впечатлений - мог стать прежде всего книжный шкаф в кабинете Сорина. Содержимое шкафа играет сущест¬венную роль в разво-рачивающихся событиях: читаются произведения Мопассана и Тригорина, упоминаются имена Бокля, Спенсера, Ломброзо... Услугами шкафа пользуются Сорин, Треплев, учитель Медведенко. Пос¬ледний - в силу отсутствия денег на приобретение собственной биб¬лиотеки. Любопытно, что в пьесе "Вишневый сад" шкаф, абстрагиро¬ванный от своего содержания, играет уже самостоятельную роль.
Если ключ к сюжету о Мировой душе сокрыт в книжном шкафу, следует внимательнее прислушаться к репликам персонажей перед представлением. Треплев: "...пусть нам приснится то, что будет через двести тысяч лет!". Сорин: "Через двести тысяч лет ничего не будет" (С.13,13). В первоначальном варианте звучала также реп¬лика Медведенко: "...прежде чем Европа достигнет результатов, че¬ловечество, как пишет Фламмарион, погибнет вследствие охлаждения земных полушарий" (С.13, 258). Чехов снял упоминание о Фламмарионе, имея, очевидно, для этого веские основания. Сходный текст, однако, встречается в "Палате № 6". Рагин размышляет о человечестве: "...всему этому суждено уйти в почву и, в конце концов, охладеть вместе с земною корой, а потом миллионы лет без смысла, и без цели носиться с землей вокруг солнца..." (С.8, 90). Это свиде-тельствует, что "фламмарионовская" тема гибели всего живого на Земле была не¬безынтересна самому Чехову. Комментарий к Полному собранию сочи¬нений и писем в 30-ти томах и вся обширная "Чеховиана" но содер¬жат данных о Фламмарионе и его сочинениях.
По сведениям, почерпнутым из "Русской энциклопедии», Камилл Флам-марион, выдающийся французский астроном, сыграл огромную роль в популяризации научных астрономических знаний: за мощь воображения и необычайную плодовитость как писателя его прозвали - "Огонь Ориона"4/. По каталогу Российской государственной библиотеки, в 60-90-х годах Х1Х века в России было издано более 30 книг астронома - в основном в массовых научно-популярных сериях - в "Детской библиотеке" А.С.Суворина, в издательствах Вольфа, Павленкова, Сытина. Характерны названия сочинений Фламмариона: "Жители небесных миров", "Многочисленность обитаемых миров", "По волнам бесконечности. Астрономическая фантазия", "Конец мира. Астрономический роман", "Светопрестав¬ление", "В небесах. Астрономический роман" и др. Только в издательстве А.С.Суворина популярные книги Фламмариона выходили четыре раза. В интересующий нас период - начало 1890-х годов - читающей публике было предложено, по крайней мере, три астрономических фантазии на тему грядущей гибели мира: "Конец мира. Астроно¬мический роман" (1893); "По волнам бесконечности. Астрономическая фантазия" (1894); "Светопреставление. Астрономи¬ческий роман" (1893).
Чехов, несомненно, был знаком с сочинениями Фламмариона по суворинским изданиям. В «Библиотеке Чехова» С.Балухатого под номером 732 числится одно из таких изданий, переданных писателем в Таганрог: Фламмарион, Камилл. Многочисленность обитаемых миров. Перевел К.Толстой. СПб., 1896. Издание подарено Чехову заведующим суворинской типографией А.Коломниным.
Интересу к астрономической проблематике могло способствовать знакомство о Ольгой Кундасовой по прозвищу "Астрономка", - подругой Марии Чеховой со времен Высших женских курсов. Ольга Петровна состояла в переписке с Антоном Павловичем (37 писем и 5 телеграмм), помогала ему в изучении французского языка, постоянно бывала в семье Чеховых в Мелихове в период работы писателя над "Чайкой", о чем свидетельствует "Дневник" Павла Егоровича Чехова. Кундасову называют в качестве прототипа Рассудиной в повести "Три года". Несомненно, "Астрономка" была в курсе популярной литературы, поскольку состояла в штате профессора Бредихина в Московской обсерватории (П.5,635).
Сопоставление содержания монолога Мировой души с астрономическими романами Фламмариона свидетельствует, что именно оттуда черпал Константин Треплев символику и сюжеты грядущего хаоса. Роман "Светопреставление" (СПб., 1894) в переводе В.Ранцова повествует о неизбежной гибели всего живого на Земле - то ли от столкновения с ядовитой кометой, то ли от действия геологических сил (через четыре миллиона лет суша исчезнет под воздействием рек, дождей и ветров), то ли от космического холода (пелена пара закроет дос¬туп солнечному свету), то ли от засухи (испарятся моря и океаны), то ли от взрыва Солнца... В любом случае Земля превратится в "об¬леденелое кладбище".
Фламмарион живописует картину гибели весьма образно и эмоционально: "Никакой гений не мог бы вернуть истекшее время, - воскресить те дивные дни, когда земля, купаясь в волнах опьяняющего света, про¬буждалась в утренних лучах солнца вместе с зеленеющими <...> рав¬нинами, - с реками, извивающимися, словно длинные змеи, по зеле¬ным лугам, по рощам, оживленным пением пташек... Земля навсегда утратила горы, по склонам которых рождались родники и водопады. Она лишилась тучных нив и садов, усеянных цветами. Гнезда пташек и колыбельки детей <...> все это исчезло <...> Куда же девались утра и вечера, цветы и любящие девушки, сияющие лучи света и благоуха¬ния, радость и гармония, дивная красота и мечты? Все это умерло, исчезло, сменилось однообразием мрака и холода"5/.
В астрономической фантазии "По волнам бесконечности" (1894) говорится о том, как со временем исчезнут Земля и другие планеты: "Земля рассыплется", а самая яркая звезда Сириус будет едва мер¬цающей звездочкой 6/.
Фламмарион прослеживает постепенную трансформацию человечест¬ва на пути к концу света: сначала воцарится царство разума, разовьются новые чувства и способности (седьмое - чувство электричества, восьмое - психическое: с их помощью человек получит способность притягивать предметы, как магнитом, и общаться телепатически). Разовьется способность чувствовать ультрафиолетовое излучение. Гипноз заменит варварские методы медицины в хирургии...7/. Любопыт¬но все это сопоставить с размышлениями героев пьесы "Три сестры" о тех чувствах, которые не умирают после смерти человека: «После нас будут летать на воздушных шарах, <…> откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его…» (С.13,146). Не ме¬нее любопытно сравнение с нынешним потоком публикаций об экстра¬сенсорных способностях человека.
В конечном счете физическое человечество вымрет, но духовная субстанция останется вечной. "Души <...> заручившиеся уже бессмертием, продолжали...вечную жизнь в разных иерархиях невидимого духовного мира. Сознание всех человеческих существ, живших когда-то на Земле, достигло более высоких идеалов... Души <...> снова ожи¬вали в Боге, свободные от уз весомого вещества, и непрерывно со¬вершенствуясь, продолжали носиться в вечном свете"8/.
В книге "По волнам бесконечности" говорится о противостоянии духовного и материального миров: для первого имеют значение "лишь принципы справедливости, истины, добра и красоты"; в другом "нет ни добра, ни зла, нет справедливости и неправды, красоты и уродливости 9/. Противостояние духа и косной материи (оно составляет глав¬ную коллизию монолога Нины Заречной) продлится до тех пор, пока веществен¬ный мир не погибнет и "материя и дух сольются в гармонии пре¬красной..." (С.13, 14).
Нетрудно заметить, что содержание "астрономических фантазий" предс-тавляет собой как бы конспект той части пьесы Треплева о Мировой душе, которая успела прозвучать с подмостков импровизированного театра. Реплика Медведенко о том, что дух нель¬зя отделять от материи, ибо "самый дух есть совокупность мате¬риальных атомов" (С.13,15), восходит к роману "Светопреставление", где излагается тезис атеистов о Вселенной как "совокупности не¬разрушимых атомов"10/. Но особенно разительное впечатление произво¬дит сопоставление картин погибшей природы у Фламмариона и у Треплева: они структурно едины и представляют собой перечисление раз¬личных проявлений жизни, обрывающееся контрапунктом: "все это умерло, исчезло, сменилось однообразием мрака и холода" (Фламмарион); "...все жизни, свершив печальный круг, угасли < …> холод¬но <…> пусто <…> страшно" (Чехов, С.13, 13).
Из приведенных наблюдений следует, по крайней мере, один вы¬вод: "Сон" Константина Треплева о Мировой душе - это несамостоя¬тельное, неоригинальное, эпигонское сочинение, навеянное отчасти астроно¬мическими "фантазиями" из популярных, дешевых, массовых изданий. Сам Константин упивался "новаторской" пьесой, и не мудрено: она исполнена (наполнена) сокровенными чувствами, мечтой о любви, о грядущей "гармонии прекрасной". Сердце Нины, однако, не проснулось: для нее монолог Мировой души - просто читка, где нет любви... Харак¬терная метаморфоза, однако, происходит в конце пьесы, когда За¬речная признается Треплеву: "Я люблю его... Люблю, люблю страстно, до отчаяния люблю" (С.13, 59). И - о чудо! - холодный и бессмысленный когда-то монолог звучит снова - со страстью и выра¬зительностью, навеянными воспо-минанием о первой встрече с люби¬мым человеком.
Приведенный пример показывает, почему Чехов в окончательном тексте пьесы снял прямое упоминание о Фламмарионе: это было бы указание на эпигонство, это был бы приговор, тек более неуместный в устах такого неумного человека, как Медведенко.
Сюжет о Фламмарионе имел неожиданное продолжение. В ялтинские годы А.П.Чехов по договоренности с редакцией журнала «Русская мысль» занимался редактированием произведений начинающих литераторов. В 1903 году после чеховской правки на страницах журнала появилась повесть провинциального беллетриста А.К.Гольдебаева (Семенова) «Ссора» (первоначально – «В чем причина?»). Несмотря на то, что Чехов выбросил начало и переделал конец, он довольно доброжелательно отнесся к работе молодого автора: «Повесть <…> хороша, а местами даже очень хороша» (С.18,311). Чеховский урок, однако, пошел не впрок: в последующих произведениях Гольдебаев оказался более архаичным, чем его редактор. К новым веяниям он не приспособился и писал бесконечные романы, которых никто не хотел печатать (С.18,314-15).
Герои повести – машинист паровоза Маров и его помощник Хлебопчук – оба увлечены идеями бесконечности миров… Во время долгих рейсов «чужанин-раскольник» Сава Хлебопчук просвещает Василия Петровича; сам он начитался Фламмариона и, «бледнея от душевной боли и закрывая глаза», «с горячим благоговением» рассказывал напарнику, что люди Земли не одиноки в мироздании, что вселенной нет конца, что «за миллионами миллионов верст от нас есть соседи, наши подобия, но лучше нас и, быть может, милее для Создателя <…> Со знанием дела рассказывал он также о луне, о Марсе, о Сириусе…».
Сердце Василия Петровича «замирало от ужаса и наслаждения, как от взгляда в бездонную пропасть» (С.18,145). Заглядывая в будущее, Сава убежден, что со временем все переменится, «люди сделаются как ангелы, станут сильно любить друг друга, избегать зла». А Маров тревожится, что и т а м, в иных мирах, Христос претерпел за людей, что и т а м грядет «кончина мира, второе пришествие…» (С.18, 147-48).
Что думал Чехов, читая эти строки? Молодой писатель Гольдебаев, саратовский мещанин, недоучка (вышел из гимназии в третьем классе), как и чеховский Константин Треплев, в основу своего произведения положил космические фантазии Фламмариона… На них построил конфликт героев… Это ли не подтверждение типичности образа Треплева? Это ли не подтверждение справедливости слов Дорна, адресованных, в сущности, поколениям молодых людей, которые с годами забывают о звездных мирах: «Женишься – переменишься. Куда девались атомы, субстанции, Фламмарион…» (С.12,270).
В окончательном варианте фраза доктора о Фламмарионе также была исключена… Так, благодаря умолчанию, статус Треплова повышен, и исследователи до сих пор спорят о загадочности пьесы о Мировой душе...
«Астрономический» след сценической фантазии Константина Треплева прослеживается также в одном из ранних произведений Чехова – в пародии «Нечистые трагики и прокаженные драматурги» («Будильник», 1884. Опубликована под псевдонимом «Брат моего брата»). Пародию вызвало представление в театре Лентовского спектакля по пьесе К.А.Тарновского «Чистые и прокаженные», изобилующего невероятными сценами и утомительными эффектами. «Творческий процесс» драмодела Тарновского рисуется Чеховым в откровенно гротескном стиле: «За письменным столом, покрытым кровью, сидит Тарновский <…> во рту горит сера; из ноздрей выскакивают <…> зеленые чертики. Перо он макает не в чернильницу, а в лаву, которую мешают ведьмы. Страшно <…> Календарь Алексея Сергеевича Суворина <…> лежит тут же и с бесстрастностью судебного пристава предсказывает столкновение Земли с Солнцем, истребление вселенной и повышение цен на аптекарские товары. Хаос, ужас, страх…». Календарь Суворина на 1884 года содержал астрономический раздел с прогнозами небесных явлений (С.2, 319-20, 539-40).
Как видим, запахи серы, дьявольские огни и грядущие космические катастрофы, составляющие антураж пьесы о «Мировой душе», здесь фигу-рируют в полном наборе. Их сопровождает, правда, «повышение цен на аптекарские товары» - это придает оттенок трагикомизма итоговому обобщению: «Хаос, ужас, страх…». Не тут ли следует искать истоки насмешливо-уничижительной реакции Аркадиной на «декадентскую» пьесу Константина? В ученическом опусе сына опытная актриса могла, без сомнения, усмотреть и эпигонское подражание бездарной драме Тарновского!
Одной из загадок пьесы являются и фамилии персонажей. Семантика некоторых придуманных Чеховым фамилий лежит на поверхности, как, к примеру, лошадиная фамилия «Овсов»… В «Чайке» такая прозрачность присутствует в сценическом псевдониме матери Константина - вместо неблагозвучных фамилий «Сорина» (девичья) или «Треплева» (по мужу) она стала называться «Аркадина». У поэтов-эллинистов и Вергилия «Аркадия» - идиллическая страна, где на фоне роскошной природы разворачиваются буколические сцены. А вот почему маститый писатель получил фамилию «Тригорин»? То ли от «трех гор», то ли от «трех горестей»? Здесь открывается простор для фантазии. Представляется, что возможные ассоциации могут быть связаны с взаимоотношениями Тригорина с женщинами, и тут имеется историко-литературная подоплека.
Один из ходовых любовных сюжетов мировой литературы – отношения маститого писателя (художника, ученого, музыканта и др.) с восторженными поклонницами. Сюжет постоянно подпитывался реальными историями из творческой жизни корифеев. К примеру, в чеховские времена много говорили об отношениях Левитана с Кувшинниковой… Такого рода сюжеты неоднократно использовались и Чеховым. В «Дяде Ване» - это отношения профессора Серебрякова с Еленой Андреевной, в «Попрыгунье» - отношения художника Рябовского с женой врача Дымова. В «Чайке» - понятное дело - это взаимоотношения Тригорина сначала с Аркадиной, а потом и с Ниной Заречной.
Во втором действии Тригорин с Ниной говорят о писательстве, о славе… В подтексте – зарождение глубокого чувства Нины, их грядущей близости. Тригорин живописует свои профессиональные муки: «Пишу непрерывно, как на перекладных»... «Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на ус: приторный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера» (С.13,29).
Гелиотропы, как известно, Чеховы разводили в своем мелиховском имении. Можно представить, как пахли гелиотропы на клумбе возле знаменитого флигелька, где Антон Павлович работал над «Чайкой». В сугубо лирическом контексте гелиотроп уже встречался в истории русской литературы. Это был роман знаменитого поэта и восторженной поклонницы.
Он имел место в 1825 году в имении Прасковьи Александровны Осиповой-Вульф, которое называлось – Тригорское. Поэта звали Александром Сергеевичем Пушкиным, а его поклонницу – Анной Петровной Керн. Она была племянницей хозяйки усадьбы. Пушкин являлся в Тригорское с большой черной книгой, на полях которой были начертаны ножки и головки, читал поэму «Цыганы». «Я была в упоении <…> - вспоминала Анна Петровна, - я истаивала от наслаждения» 11/ (курсив мой – Г.Ш.).
В ночь с 18 на 19 июля 1825 года обитатели Тригорского вместе с Пушкиным совершили поездку в Михайловское. Пушкин с Анной Петровной долго гуляли по старому парку. Вот как эта прогулка была описана во французском письме Пушкина к А.Н.Вульф, сестре Анны Петровны: «Каждую ночь я гуляю в своем саду и говорю себе: «Здесь была она <…> камень, о который она споткнулась, лежит на моем столе подле увядшего гелиотропа. Наконец я много пишу стихов. Все это <…> крепко похоже на любовь, но божусь вам, что ней и помину нет. Будь я влюблен, - я бы, кажется, умер в воскресенье от бешеной ревности…»12/. А.П.Керн приводит эту выдержку из письма в своих воспоминаниях с комментариями: «Веточку гелиотропа он точно выпросил у меня»13/. Перед отъездом Анны Петровны в Ригу, где ее ждал муж, Пушкин принес ей печатный экземпляр главы «Евгения Онегина» со вложенным между страницами листком, на котором было стихотворение «Я помню чудное мгновенье»14/.
Тригорин, как мы помним, стихов не писал, однако встреча с Ниной отложилась в его литературных замыслах: «сюжет для небольшого рассказа»… Конечно, двух таких «говорящих» совпадений (роман знаменитого писателя с восторженной поклонницей, упоминание «гелиотропа») недостаточно для твердого обоснования версии происхождения фамилии чеховского беллетриста. Но и отрицать возможность того, что Тригорин – это Пушкин той счастливой поры, когда в соседнем Тригорском его пленил «гений чистой красоты», - тоже нет оснований. Сюжет о романе знаменитого писателя и восторженной поклонницы не раз просматривался в собственной биографии Чехова. Этих поклонниц называли «антоновками». С одной из них – актрисой Ольгой Книппер – Антона Павловича связали, в конце концов, узы брака.
Монолог Нины Заречной о Мировой душе, безусловно, во многом навеян космическими фантазиями Фламмариона. Однако чувствуется, что в нем есть нечто глубоко личное, собственно-чеховское. Анализируя структуру монолога, на это обратила внимание А.Г.Го¬ловачева: текст в целом построен по законам "нечеховской драма¬тургии", но содержит и собственно-чеховский голос 15/. На наш взгляд, глубина и взволнованность этого голоса обусловлены личны¬ми впечатлениями и воспоминаниями писателя.
Дважды - в 1888 и 1889 годах - семья Чеховых провела весенние и летние месяцы ко Украине, в Сумах. Письма той поры содержат ли¬рические, окрашенные в мягкие тона украинского юмора описания при¬роды. Особняком стоит весенняя зарисовка, сделанная в письме к А.С.Суворину от 4 мая 1889 года. Здесь мы находим обобщенный и в то же время насыщенный живыми деталями образ обновления природы, весеннего кипения, буйства живой материи во всех ее проявлениях. "Каждый день родятся миллиарды существ. Соловьи, бугаи, кукушки и прочие пернатые твари кричат без умолку день и ночь <…> в саду буквально рев от майских жуков..." Картину начинает изобра¬жение цветущих садов: "Все поет, цветет, блещет красотой <…> Стволы яблонь, груш, вишен и слив выкрашены <…> в белую краску, цветут все эти древеса бело, отчего поразительно похожи на невест во время венчания: белые платья, белые цветы..." (П. 3, 202-03). Здесь явственно ощутимо присутствие символического смысла: белая невеста - символ обновления миря, продолжения жизни.
Картина природы дополнена странным, на первый взгляд, фило¬софским пассажем о равнодушии, созвучным размышлениям целого ря¬да мыслителей - начиная от библейского Екклезиаста и кончая Пуш¬киным: "Природа очень хорошее успокоительное средство. Она мирит, т.е. делает человека равнодушным. Только равнодушные люди способны ясно смотреть на вещи, быть справедливыми..." (П.3,203). Но переход к пессимистическим интонациям, более всего соответствующий истолкованию бытия как "суеты сует", не так уж и произволен. В ту цветущую весну на глазах Чехова угасал "кашляющий художник" - брат Николай, обреченный на скорую смерть от чахотки.
Остался ли втуне этот опыт сложного пейзажно-философского по¬строения? В произведениях Чехова подобной картины мы не найдем. Однако апофеозу жизни, каковым можно рассматривать опи¬сание украинской весны, противостоит столь же впечатляющая карти¬на тотальной безжизненности, воспроизведенная в монологе Нины Заречной. Здесь также находим перечисление бесчисленных живых существ, взятых укрупненно (человек - царь природы, лев - царь зве¬рей, орел - царь птиц), но как бы с обратным знаком: перечисление сонма тварей только подчеркивает всеобщую безжизненность. Харак¬терно, что важными приметами жизни названы "майские жуки" в ли¬повых рощах: как и крики журавлей в лугах - это приметы украин¬ской весны, той жизни, которая захватила писателя и олицетворяла, очевидно, полноту бытия. Есть тут и символическая фигура в б е л о м - Мировая.душа, призванная сыграть важную роль в обновле¬нии мира на основе слияния духа и материи.
Не последнюю роль играют и екклезиастические мотивы, в част¬ности, идея круговращения жизни, возвращения всего и вся "на кру¬ги свои" (Екклезиаст, I:6). Эта идея расширена до образа всеоб¬щего "печального круга", который через двести тысяч лет совершат "все жизни, все жизни, все жизни".
Конкретные переклички между картиной украинской природы и мо¬нологом Нины Заречной дают основание утверждать, что одним из сильных идейно-эмоциональных толчков для создания картины небы¬тия в пьесе "Чайка" явились собственно - чеховские впечатления от кипения жизни в памятную весну 1889 года. Образ создавался по контрасту - при сохранении и развитии философских идей Екклези¬аста.
Наконец, в постижении смысла пьесы важна и та символика, которой наполнено название пьесы – «Чайка». Почему выбрана чайка, а не какая-то другая птица? К примеру, белая цапля? Или черная галка? Мы привыкли связывать образ подстреленной чайки с коллизией Нины Заречной, такой же белой и чистой девушкой, которую походя погубил заезжий литератор. А ведь возможна проекция убитой птицы на самого Константина Треплева, который, убив птицу, потом убил и себя. Любопытный поворот приобрела эта коллизия в белградской постановке «Чайки» режиссера Стево Жигона на сцене Народного театра Сербии. По-сербски чайка называется «галеб» - существительное мужского рода. В последнем акте режиссер специально выстраивает высокую веранду с крутой лестницей – именно там предстоит застрелиться Константину, чтобы потом скатиться по лестнице вниз, ломая крылья-руки. Словно подстреленный галеб…
Но это специфически-сербский вариант. На русской же почве чайка остается существом женского рода и прочно ассоциируется с судьбой Нины Заречной. Причем, как ни странно, символическая проекция названия птицы предвосхищает даже такую деталь в ее биографии, как потеря ребенка. В «Энциклопедии символов» Е.Я.Шейниной отмечено значение чайки как тоскующей женщины: «Символ материнского плача по своим детям» 16/. Тот, кто слышал клики мелких озерных чаек, именуемых иногда пигалицами, тот не забудет их плачущей, зовущей, тоскующей интонации…
Многослойная структура пьесы о Мировой душе, переплетение в ней голосов автора и героя, сопряженность с обширным кругом рели¬гиозной, философской, художественной, научно-популярной литературы, включение личных житейских впечатлений выводят этот текст далеко за рамки "ученического опуса" Константина Треплева. А.П.Чудаков сблизил его с жанром "эсхатологической медитации о судьбах мира» 17/.
Не следует упускать из виду и то обстоятельство, что пьеса Треплева - это "сон" с присущей сновидению свободой сочетания фанта¬зии и реальности, с его своеобразной символикой. Сон ждет дальнейшей расшифров¬ки.
* * *
Сноски:
1.Зингерман Б. Театр Чехова и его мировое значение. - М.: Наука, 1988. С.292.
2.Обзор литературы по источникам "Чайки" см.: Зингерман Б. Театр Чехова и его мировое значение. - М.1988.С.293; Вилькин А. Отчего стрелялся Константин? // Современная драматургия. 1988. № 3. С.207-16; Собенников А.С. Художест¬венный символ в драматургии А.П.Чехова. - Иркутск. 1989. С.116-117; Шейкина М.А. «Явление, достойное пера Фламмариона…» // Чеховиана. Мелиховские труды и дни. - М.: Наука. 1995. С.118-124.
3. Звиняцковский В.Я. К полемической функции образов Треплева и Тригорина в «Чайке» А.П.Чехова // Revue des etudes slaves. - Paris. 1991. S.587-605.
4. Русская энциклопедия. Т. 19. С.279-71.
5.Фламмарион, Камилл. Светопреставление. Астрономический роман. - СПб.: Тип. Пантелеевых. 1893. С.134.
6.Фламмарион, Камилл. По волнам бесконечности. Астрономическая фантазия. - СПб., 1894. С.316.
7. Фламмарион, Камилл. Светопреставление. С.92-93.
8. Фламмарион, Камилл. Светопреставление. С.143.
9. Фламмарион, Камилл. По волнам бесконечности. С.307.
10.Фламмарион, Камилл. Светопреставление. С. 135.
11.Керн А.П. Воспоминания. Дневники. Переписка. - М., 1989. С.33.
12.Там же. С.35.
13.Там же. С.36.
14.Там же. С.34.
15. Головачева А.Г. Монолог о «Мировой душе» («Чайка») в творчестве Чехова 1890-х годов // Вестник ЛГУ. - Л., 1986. С.51-56.
16. Шейнина Е.Я.Энциклопедия символов. - М., 2001. С.130.
17. Чудаков А. Мир Чехова. - М.: Советский писатель. 1986. С.318.
Треплев Константин Гаврилович в пьесе «Чайка» Чехова — молодой человек 25 лет, сын Аркадиной и киевского мещанина, в молодости бывшего известным актером; учился в университете, но не кончил; нигде не служит; живет в усадьбе своего дяди Сорина на средства матери, но из-за ее скупости вынужден три года ходить в одном и том же. Нервен, импульсивен, вспыльчив, болезненно самолюбив. По словам влюбленной в него Маши Шамраевой, у него «прекрасный печальный голос и манеры, как у поэта».
С детства чувствуя свое униженное положение в семействе матери, среди постоянно окружавших ее «знаменитостей», артистов и писателей, которые, как ему казалось, терпели его только потому, что он сын знаменитой артистки, Треплев в пьесе «Чайка» страстно желает сам стать известным писателем, чтобы доказать всем вокруг и особенно матери, таланту и славе которой он втайне завидует, что он — не «ничто», что и у него есть талант, достойный всеобщего восхищения. При этом реалистическое искусство, основанное на принципе подражания жизни как она есть, герой отрицает как пошлость, рутину и предрассудок и противопоставляет ему искусство нового типа, изображающее жизнь такой, какой «она представляется в мечтах», т. е. искусство символизма. Его пьеса о «мировой душе» и дьяволе, «отце вечной материи», по своему образному строю напоминающая пьесы бельгийского драматурга М. Метерлинка, высоко ценимого в среде ранних русских символистов, ставится им в имении дяди специально для того, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать матери и всему окружению свой талант драматурга, а с другой — «уколоть» мать и ее любовника, литератора Тригорина, как приверженцев старого искусства, отжившего свой век.
Однако, бунтуя против матери, Треплев в душе нежно любит ее, в глаза и за глаза ласково называет «мамой» и как бы все время ждет, что когда-нибудь она, отбросив свой эгоцентризм, одарит его той сильной, нерассуждающей, только на него одного направленной материнской любовью, отсутствие которой с ее стороны он так остро ощущал с детства. Потребность быть любимым так же сильна в нем, как и желание стать писателем, но если как писателю ему все же удается в конце концов обрести некоторый успех: его начинают печатать в журналах, у него даже появляется свой круг почитателей в среде петербургской и московской интеллигенции, — то испытать счастье взаимной любви ему не суждено. Нина Заречная, дочь соседского помещика, в которую он по-юношески пылко влюблен и которая поначалу, как думают все, отвечает ему взаимностью, на самом деле холодна к нему так же, как и его мать, и в каком-то смысле повторяет ее роль в его судьбе. Ненавидящий Тригорина не только как литератора прежнего поколения, чуждого эстетике «новых форм», но и как любовника своей матери, к которому он ее ревнует, Треплев начинает вдвойне ненавидеть его, когда убеждается, что и сердце Нины принадлежит тому же Тригорину. В отчаянии Треплев в пьесе «Чайка» то собирается вызвать Тригорина на дуэль, то намекает, что покончит жизнь самоубийством (так, случайно убив чайку, он говорит Нине о том, что скоро таким же образом убьет сам себя), и действительно делает такую попытку. Нину, уехавшую за Тригориным, он поначалу преследует, но потом, ясно осознав, что отвергнут, возвращается домой и пытается забыть ее: рвет все фотографии и письма.
По прошествии двух лет, когда он становится уже известен как писатель, чувство зависти к Тригорину как человеку, который давно нашел свою манеру и пишет лучше, чем он, не оставляет его. Перечитывая то, что написал накануне, Треплев ужасается манерности своего языка, изобилующего откровенными литературными штампами («Бледное лицо, обрамленное темными волосами..» и т. п.), и приходит к выводу, который можно истолковать как попытку пойти на мировую с Тригориным: «дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет... потому, что это свободно льется из его души». Неожиданный приход в усадьбу Нины, признающейся ему в том, что она по-прежнему любит Тригорина, теперь, когда он бросил ее, даже сильнее, чем прежде, заставляет героя вновь ощутить Тригорина как более счастливого соперника, а себя как проигравшего в борьбе с ним и заодно со всеми теми, кого он хотел победить в этой жизни. Он отчетливо осознает, что не только не прошла, но усилилась его любовь к Нине. После ее ухода он «в продолжение двух минут молча рвет все свои рукописи», и через некоторое время только что поужинавшие и собирающиеся продолжать игру в лото Аркадина, Тригорин, Дорн, Маша и др. слышат звук выстрела, которым обрывает свою жизнь Треплев.
Александр Чепуров
«Без театра нельзя...»
Кристиан Люпа
в работе над чеховской «Чайкой» в Александринском театре
В этом году исполняется 75-лет выдающемуся польскому режиссеру Кристиану Люпе. В 2007 г. он поставил свой пока что единственный в России спектакль, осуществив оригинальную интерпретацию чеховской «Чайки» в Александринском театре.
Идея пригласить к сотрудничеству классика польской режиссуры принадлежала Валерию Фокину, который в те годы начал реализацию своей творческой программы «Новая жизнь традиции». Этот спектакль пользовался большой популярностью у зрителей и шел на сцене театра в течение десяти лет. За режиссуру александринской «Чайки» Кристиан Люпа был удостоен высшей российской театральной премии «Золотая маска».
Вопрос о режиссерской адаптации, созданной Кристианом Люпой, в достаточной степени сложен. Сам режиссер, начиная работу над спектаклем, на первой репетиции, которая состоялась 15 мая 2007 г., намеренно заставил артистов прочитать пьесу целиком в первоначальном авторском варианте, сыгранном в Александринском театре в 1896 г. Этим режиссер подчеркнул исходную точку, с которой он начинал работу с артистами, принципиально делая их сотворцами будущего спектакля.
Безусловно, у Люпы изначально имелся план будущей постановки, существовало свое видение текстовой его основы. Не вдаваясь в детали формирования сценического текста, рассмотрим итоговый вариант, который сложился в ходе взаимодействия авторского замысла с его проработкой в процессе репетиций с актерами. В конечном счете, методологически проблема изучения режиссерской драматургии спектакля побуждает нас к многоаспектному изучению всего комплекса театральной документации, куда входит и режиссерский экземпляр литературного текста, где в основном фиксируется драматургическая интенция постановщика, и экземпляры помощника режиссера, где отражается результат репетиционной работы, и, наконец, тот сценический текст, который развертывается в реальном времени и пространстве и который запечатлевается в нашем зрительском восприятии. Именно такой комплексный подход и стоит использовать при анализе драматургической структуры спектакля Кристиана Люпы, поставленного в Александринском театре. Задача состоит в том, чтобы выявить природу и творческие мотивации тех изменений, которым подвергался текст чеховской пьесы в спектакле, созданном «по ее мотивам», что в итоге и определило собой характер сценической интерпретации.
Первый слой режиссерских корректив коснулся архаизмов, присутствующих в тексте Чехова, которые характеризуют манеру речи русской обывательской среды конца девятнадцатого века. Люпа убрал обороты типа «благодарствуйте», «извольте», «одолжайтесь», «вчерась» и т.п., заменив их на «спасибо», «прошу», «вчера»... Были изъяты все хронологические маркировки действия, воспоминаний и ассоциаций.
Фото из архива театра
Изменениям подверглись и личные местоимения: вместо традиционного в русской культуре, несколько старомодного «вы» практически везде было вставлено «ты», что придало общему звучанию текста и отношениям героев вполне современное звучание.
Однако корректировки, казалось бы, имеющие историческую основу, коснулись и более принципиальных вещей. Так, например, устранив ремарки, фиксирующие то, что Маша «нюхает табак» (так как сегодня этот способ употребления табака давно вышел из обихода), режиссер тем самым убрал и весьма важную характерную черту героини Чехова, которая резко подчеркивала ее эмансипированность, ее браваду. Вместе с тем, режиссер явно имел и другую цель: он намеренно хотел снять налет почти карикатурной характерности, который нередко сопровождал образ Маши, и за которым пряталась пошлая театральщина в исполнении этой роли.
Первый акт практически не подвергся никаким изменениям. Как декларировал Люпа, именно его он рассматривал чуть ли не как отдельное произведение, где творческий полет, мечта об искусстве жестко сталкивались с реальностью, где происходила главная катастрофа для художника.
Вместе с тем и в первом акте была произведена режиссерская корректура. Убирая повторы, нарративные детали, разговоры à propos, режиссер, с одной стороны, делает действие более упругим, а с другой, целенаправленно лишает его так называемой «погруженности в быт».
Люпа даже идет на то, что отбрасывает «логические мостики» и мотивировки, игнорирует лейтмотивное построение отдельных текстовых конструкций. Так, например, купируя реплику Маши, которая в диалоге с Сориным объясняет необходимость собаки, охраняющей в амбаре просо от воров, режиссер делает непонятными и почти абсурдными возникающие во втором акте слова Шамраева о невозможности избавиться от собачьего воя. Таким образом, в композиции подчеркивается, что в споре с Аркадиной и Сориным о чинимых неудобствах управляющий проявляет, скорее, вздорность и упрямство, чем все же некоторый здравый смысл. Так же купирование мотива, связанного с нехваткой лошадей, занятых на хозяйственных работах, который в первой же сцене обозначает Сорин, снимает логическое объяснение позиции Шамраева и обостряет конфликт во втором действии, возникающий между Аркадиной и управляющим. Столкновение Аркадиной с Шамраевым из-за лошадей, таким образом, теряет логически-бытовую мотивацию и приобретает абсурдно-позиционный характер.
В диалоге Треплева с Сориным Люпа пропускает темы, связанные с социальными и житейски-бытовыми мотивациями положения героев. Так, разглагольствования Сорина о своей внешности, послужившей причиной его жизненной трагедии, о своей службе и о попытках реализовать свою социальную роль оказываются в контексте режиссерского замысла лишними. Абсолютно неважно для режиссера и социальное положение Треплева («по паспорту я - киевский мещанин»). Этот мотив будет снят и в реплике Аркадиной из третьего акта. И это понятно. Ведь речь в спектакле пойдет не о социальной уязвленности героя, а о его духовно-творческом кризисе.
В рассказе Треплева о Тригорине Люпа убирает повествовательно-бытовой тон, в результате чего характеристика беллетриста становится более резкой: «теперь он пьет только пиво и может любить только немолодых». Характеристика Тригорина в композиции Люпы касается, прежде всего, оценки его художественных достоинств: «после Толстого или Золя не захочешь читать Тригорина». Аналогично и характеристика Аркадиной в устах Треплева лишается многих подробностей, что опять-таки делает конфликт между матерью-актрисой и сыном-драматургом более обобщенным и лишенным мелочно-бытовых мотиваций.
Надо отметить, что мотив ревности матери к сыну в ходе адаптации очищается от побочного мотива, связанного с Ниной Заречной. Люпа оставляет тему творческой ревности, связанную с возможным
успехом Заречной («ей уже досадно, что будет иметь успех Заречная»), но снимает тему ревности в связи с тем впечатлением, которое может произвести молоденькая девушка на Тригорина («ее беллетристу может понравиться Заречная»).
Еще одна существенная вещь, на которую стоит обратить внимание, заключается в том, что Люпа в своей адаптации приглушает радикализм в позиции Треплева. Речь идет о его отношении к театру. В одной из реплик, посвященных Аркадиной, в самом начале пьесы Треплев заявляет: «Она знает также, что я не признаю театра». И далее он говорит о театральной рутине. Собственно, при этом модель, которую предлагает Треплев, носит принципиально провокативный непримиримый характер. Треплев кардинально отрицает искусство и театр как таковой. Люпа же лишает Треплева подобной непримиримости. У него Костя - прежде всего художник. И это с одной стороны, усложняет конфликт, а с другой - оставляет герою некий выход из тупиковой ситуации в финале.
Режиссер сокращает восторженный монолог Треплева, предшествующий появлению Нины, где присутствует пошловато-трафаретная экзальтированность («Я без нее жить не могу. Даже звук шагов ее прекрасен. Я счастлив безумно. Волшебница, мечта моя...»). Здесь убирается мотив неодолимой влюбленности Треплева в Заречную, который в первом акте пьесы Чехова, казалось бы, превалирует над воображением художника. В адаптации Люпы можно предположить, что Треплев изначально видит в Нине прежде всего актрису, воплотительницу своей творческой идеи.
С другой стороны, и в репликах Нины Заречной режиссер сокращает проявления ее эмоциональной экзальтации. Из композиции уходит знаменитая фраза: «уже начинает восходить луна, и я гнала лошадь, гнала.». К тому же Люпа убирает из реплик Треплева и Сорина все подробности отношений Нины с отцом и мачехой, что позволяет сконцентрировать внимание зрителя на духовно-творческих отношениях молодых героев, жаждущих своей художественной самореализации.
Очень важное значение в своем спектакле (отчасти это уже намечено в тексте композиции) Кристиан Люпа придал роли Якова и его отношениям с Константином. Яков становится своеобразным ассистентом-демоном Треплева, помогающим воплотить его творческие идеи, охраняющим и защищающим его, в том числе и от его собственного отчаяния. «Работник» Яков становится в некотором смысле руками
«Чайка». Александринский театр. С. Сытник - Сорин. Фото из архива театра
творческой души, материализующими духовный порыв. Он - своеобразное «тело духа» художника. Неслучайно поэтому в спектакле мы впрямую ощутим его телесность, когда Яков будет, совершая пластические кульбиты, как некий Гомункулус в протоплазме, плавать в прозрачном резервуаре с водой, символизирующем колдовское озеро. Этот метафорический образ, частью которого станет в спектакле Яков, призван режиссером установить координаты метафизического контекста действия.
В спектакле Люпы прорисовано даже некое соперничество Якова и Нины - как двух личностей, которые должны воплотить творческую идею автора-драматурга. Если Яков кажется полностью понимающим и разделяющим замысел Треплева, то Нине этот замысел еще непонятен и ощущает его она, скорее, интуитивно, быть может, подсознательно. В диалоге Нины и Треплева Люпа подчеркивает их непонимание друг друга. Несколько сокращений и добавлений, сделанных режиссером, показывают, что Нина, скорее, озабочена стремлением к самовоплощению, известности, чем желанием вникнуть в смысл исполняемой роли. И к Треплеву она относится, скорее, как к средству достижения своей цели. Обострение конфликта Нины и Треплева Люпа подчеркивает и усиливает в спектакле. Вслед за репликой Нины о бездейственности его пьесы, об отсутствии в ней любви Треплев швыряет в нее стул.
А Нина, словно в ответ, сорвав с себя платье, кидает его Треплеву и уходит переодеваться к спектаклю.
С появлением Нины Треплев выгоняет Якова из бассейна, так как именно Нине предстоит занять его место в этом символическом «озере» и, поднимаясь из него, читать монолог Мировой души. Здесь опять как будто бы нарушается равновесие: из творческого пространства изгоняется все понимающий помощник, а его место занимает еще не понимающая смысла натурщица. Впоследствии тема противостояния Нины и Якова будет проведена в спектакле вплоть до финала, где обе фигуры обретут равновесие в душе Треплева.
После ухода Нины, перед показом пьесы о Мировой душе Люпа вставляет реплику Треплева, обращающегося прямо к зрительному залу: «Поймите меня. Пожалуйста.». Эта очень личная, глубоко лиричная фраза подчеркивает то, что Треплев как истинный художник жаждет понимания и отзывчивости аудитории, а вовсе не хочет ее оскорблять и эпатировать.
В реакции Треплева на провал своей пьесы Люпа снимает излишнюю, присутствующую в оригинальном тексте ребяческую истеричность героя. Треплев у Чехова несколько раз повторяет «Занавес! Занавес!» и даже топает ногой. Все это в спектакле Люпы отсутствует. Герой, по его версии, сразу переходит к мотивации «провала»: «Я выпустил из виду, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие избранные. Я нарушил монополию!». И хотя Люпа ничуть не умаляет юношеской горячности героя, он придает ей принципиально творческий характер. Обобщенность и эстетическую мотивированность реакции Треплева режиссер подчеркивает еще и тем, что актер, исполняющий роль Константина, спрыгивает со сцены и убегает через зрительный зал.
Разговор Аркадиной с Сориным, Тригориным и Дорном по поводу Треплева сохранен в композиции полностью. Однако в следующей сцене, где Аркадина восхищается картиной озера, текст существенно и принципиально изменен. Здесь вводится своеобразное «смещение» времени, взгляд на события и ситуацию из будущего. Герои начинают говорить как будто бы о чем-то уже не существующем, исчезнувшем из реальности. Как будто действие из чеховского времени транспонируется в нашу сегодняшнюю реальность, где колдовского озера уже не существует и где на его месте - лишь бесплодная потрескавшаяся захламленная равнина с остатками каких-то очистных сооружений.
«Чайка». Александринский театр. М. Игнатова - Аркадина, А. Шимко - Тригорин. Фото из архива театра
В монолог Аркадиной Люпа вставляет фразу: «Когда-то здесь было огромное озеро.». И сразу возникает удивительный действенный контрапункт. Герои словно переносятся в надвременное пространство. Они наделяются каким-то особым зрением, способным давать ощущение одновременного существования и в настоящем, и в прошлом, и в будущем. К нашему удивлению выясняется, что треплевская пьеса оказала на них определенное воздействие, настроила на философско-созерцательный лад. Они невольно оказываются в положении Мировой души, которую дружно только что осмеяли. Чехов любил такие почти мистические «забросы» во времени, одновременно объясняя их неким психологическим феноменом или игрой сознания. Такие «моменты истины» есть во многих его произведениях, на них останавливал свое внимание писатель и в записных книжках. В данном случае Кристиан Люпа делает вполне «чеховский» ход.
В этой сцене режиссер вводит и еще одного отсутствующего в пьесе Чехова персонажа - некоего Потерянного. Он появляется рядом с Машей, среди прочих персонажей, бесшумно и безмолвно поднимаясь из зрительного зала на сцену. Его, казалось бы, никто не замечает, только Маша на мгновенье бросает на него взгляд. Здесь Люпа также материализует еще одну чеховскую тему, которая присутствует в его произведениях, и которую он точно и чутко подмечает в жизни. Речь идет о
К. Люпа. Эскиз сценографии спектакля «Чайка».
Александринский театр. Фото из архива театра
так называемом «незримом свидетеле», зрителе, соучастнике события, которого мы порою подсознательно ощущаем. Здесь также своеобразно реализуется тема театра, который рождается из самой жизни. И тогда то, что с нами происходит, и самих себя мы начинаем воспринимать со стороны, как некий спонтанно разворачивающийся спектакль.
Потерянный подобен Прохожему в «Вишневом саде». Он вполне реален, но в то же время приобретает в воображении и игре подсознания героев зловещую, отчетливо мистическую роль некоего недоброго предвестника.
Появление Нины и ее диалог с Аркадиной и Тригориным в целом сохранен в композиции. Лишь в реплике Тригорина о ловле рыбы вставлена фраза: «Озеро, говорите...». Эта фраза подчеркивает внебытовой характер рассуждений Тригорина о любви к рыбалке при том, что озеро, как мы уже убедились, существует в художественном пространстве спектакля лишь гипотетически как отражение давно исчезнувшей в прошлом картины.
Режиссер корректирует реплику Аркадиной, обращенную к брату, который жалуется на больные ноги. Если в оригинале у Чехова разговор идет о реальной болезни Сорина («Они у тебя, как деревянные, едва ходят.»), то у Люпы Аркадина иронически замечает: «Да, твои ноги. Не одна, так другая». Таким образом, реальность болезни Сорина сразу
ставится под сомнение. Герой, скорее, начинает походить на персонажа, вообразившего свою болезнь и живущего под влиянием этой иллюзии. Люпа игнорирует образ «еле живой развалины», который в пьесе Чехова был по контрасту сопоставлен с Треплевым.
В финальной сцене первого акта, в диалоге Дорна и Треплева, опять же, следуя своей изначальной идее о творческой, духовной природе конфликта главного героя, Люпа сокращает в репликах молодого человека проявления его любовных порывов по отношению к Нине. Так же в репликах Дорна сокращены оценки состояния Треплева: «Фуй, какой нервный! Слезы на глазах. Как вы бледны». Вместе с тем в финальной сцене обострено отношение Треплева к Маше. В реплику Треплева Люпа вставляет фразу: «Не ходите за мной», которая подчеркивает одновременно и стремление избавиться от навязчивости Маши и нежелание видеть проявление жалости к себе. Режиссер, сокращая реплики Треплева, вместе с тем вводит фразу, которая акцентирует стремление Константина поскорее завершить разговор и окончить «спектакль»: «Спасибо всем».
Самый финал первого акта в версии Люпы становится жестче и конфликтнее. Взамен умиротворения и элегической поэтичности последней сцены, когда Маша кладет голову на грудь Дорна, а тот произносит патетические слова о колдовском озере, о всеобщей нервности и о любви, режиссер побуждает Машу порывисто убежать, а Дорна лишь растерянно произнести: «Что же мне делать?».
Второй акт спектакля Кристиана Люпы объединяет три чеховских действия. И здесь режиссер производит существенную перекомпоновку драматургического материала. Доминантой первой части второго акта режиссер делает сцену коллективного чтения повести Мопассана «На воде». Он сокращает самое начало второго действия, где Аркадина хвастается Маше своей моложавостью и высказывает свое кредо: не задумываться о будущем. Уловив в первом действии момент, когда пьеса Кости Треплева оказала на смотрящих определенное воздействие, настроив их на философско-созерцательный лад, Люпа подхватывает это ощущение и развивает его в самой первой сцене второго акта. Он акцентирует внимание и на том конфликте времен, на конфликте духовного и реального, который уже обнаружил себя в первом акте. Звуковая увертюра второго акта - оглушающий шум города -контрастирует с атмосферой исчезнувшего из реальности и существующего только в воображении озера.
«Чайка». Александринский театр. Сцена из спектакля. Монолог Мировой души. Фото из архива театра
В начале акта Люпа расширяет фрагмент из дневниковой прозы Мопассана, посвященный оценке труда романистов, их способности переносить жизненные сюжеты и даже самих людей в свои произведения. Этот текст, лишь частично процитированный в пьесе Чехова, автор композиции развертывает полностью, обнаруживая в нем истоки образных мотивов «Чайки», параллели и ассоциации, возникающие по поводу уже бывших и будущих размышлений героев. Так, возможность романиста списывать свои сюжеты с реальных жизненных обстоятельств и лиц откликнется в третьем действии намерением Тригорина превратить еще нереализованную в жизни историю Нины-чайки в «сюжет для небольшого рассказа».
В первой сцене второго акта Люпа завязывает еще один образно-драматургический узел, который, казалось бы, сугубо бытовую деталь делает одним из ключевых образов спектакля. После цитаты из Мопассана «о романистах и крысах», которую зачитывает Дорн, Нина вдруг встает и, продефилировав перед всеми собравшимися, безмолвно уходит. Возвращается же она только тогда, когда Аркадина заканчивает рассуждать по поводу своей части прочтенного ею текста. Этот уход и возвращение Нины, с одной стороны, сосредотачивают наше внимание на ней как на потенциальной «модели» для художественного замысла (тем более, что для Треплева это уже отыгранный сюжет), с другой -
проявляют состояние Нины, ощущающей внутреннее беспокойство и жаждущей своего воплощения в искусстве. И, наконец, проход Нины является своеобразным перформативным жестом, попавшим «в кадр», который может запечатлеваться в сознании, повторяться, концентрировать на себе зрительское внимание.
Словно в ответ на слова Аркадиной о том, что Треплев целые дни проводит на озере, Люпа вводит фонограмму «щебет птиц» (согласно экземпляру помощника режиссера*).
Эта фонограмма лишь подчеркивает, что озеро, на котором пропадает Константин, воображаемое, как воображаемыми являются птицы, голоса которых мы слышим с фонограммы. Фонограмма со щебетом птиц начинала звучать тогда, когда Нина как будто бы отъединялась от людей. Именно в этот момент Маша просит Нину прочесть монолог из пьесы Треплева. И Нина начинает во второй раз читать монолог Мировой души: «Люди, львы, орлы и куропатки.».
Этот фрагмент впоследствии был изъят Чеховым из окончательного варианта пьесы, но присутствовал в первом оригинальном ее варианте. И Кристиан Люпа сохраняет его. Более того, эту систему повторов, подхваченную вслед за Чеховым, режиссер делает ключевой в своей композиции. Изначально у Чехова монолог Мировой души Нина произносила трижды. В первый раз во время неудачного представления пьесы Треплева, второй раз по просьбе Маши во втором действии, а в третий - в финале пьесы по собственному порыву. Чехов выстраивает действие таким образом, что понимание этого текста и одухотворение им приходит к Нине лишь тогда, когда она, пережив собственные невзгоды и разочарования, пройдя через ад жизни, оказывается готовой присвоить себе этот написанный другим человеком текст. И этот путь обретения жизненного опыта становится для нее путем обретения себя как актрисы, как художника, что, собственно, и производит такое сильное впечатление на Треплева в финале. Впоследствии Чехов под влиянием своих редакторов, избавляясь от повторов, решил сократить чтение монолога во втором действии, считая достаточным подчеркнуть контраст первого его исполнения и финала.
Для Кристиана Люпы было принципиально проследить всю линию развития отношений Нины с треплевским текстом. Тем более, что во
* В нашем анализе используются ремарки и пометки, сделанные в экземпляре помощника режиссера, хранящемся в Александрин-ском театре.
втором действии чтению Нины Маша решительно противопоставляет воспоминание о вдохновенном чтении Треплева.
Монолог Нины о Тригорине Люпа сокращает вполовину. Он оставляет только первую часть, где говорится об известности Тригорина как писателя и выражается недоумение Нины в связи с его увлечением рыбной ловлей. Вторая же часть - развернутое описание и характеристика поведения Тригорина - сокращается. Тем самым режиссер подчеркивает сосредоточенность Нины именно на проблеме известности, публичности художника, которая ее больше всего волнует.
Режиссер обостряет ситуацию еще и тем, что не оставляет Нину на сцене одну, а выводит на втором плане Треплева, который появляется с ружьем и убитой чайкой. Таким образом, возникает символическая и ситуативная напряженность. Надо сказать, что Люпа (как станет видно в дальнейшем) нарушает линейное развитие действия второго акта, подчиняя его внутренней логике сознания героев. Следовательно, окончание второго действия будет восприниматься как ассоциативная инверсия, где герои и ситуации возникают не столько по жизненной, сколько по внутренней духовной необходимости.
Присутствие Треплева, нарушая одиночество Нины, так же делает ее внутренний монолог публично-театральным. И потому вполне естественным кажется театральный жест Константина, кладущего к ногам Нины убитую чайку. В спектакле Люпы этот жест действительно, воспринимается символически. Он рифмуется с той сценой из первого акта, когда в руках Треплева оказывается платье Нины - оболочка повседневности, которую она как актриса сбрасывает, чтобы воплотиться в образе, созданном автором пьесы о Мировой душе. Убитая чайка, следовательно, является символом опредмеченной мечты, живой жизни, воплощенной в художественном образе. Здесь Люпа подхватывает и развивает чеховский мотив, делая его доминантой духовно-психологического конфликта спектакля. Утрата интереса к Косте со стороны Нины рассматривается режиссером исключительно как потеря героем-автором своей актрисы, той живой материи, которая способна воплотить его духовную мечту.
При этом нужно сказать, что выпущенный фрагмент треплевской реплики, вместе с тем, не пропал для спектакля. В композиции Треп-лев не произносит текст про свой сон, в котором ему привиделось, что «озеро вдруг высохло или утекло в землю». Однако Люпа делает этот образ одним из ключевых в спектакле. Более того, он визуализирует его,
воплощая в своей декорации: на заднике, изображающем иссохший безводный ландшафт, в странной конструкции треплевского «театра», напоминающей очистные сооружения с остатками воды в прозрачном резервуаре. А затем эта тема прочитывается в образе опорожненного бассейна, который открывается взору зрителей во второй части спектакля.
Выпущено режиссером и начало диалога Нины с Тригориным. У Чехова Тригорин сам проявляет интерес к Нине, желая избавиться от фальши в своих рассказах и представить себе, «что за штучка» девушка в 19 лет. Эти слова Тригорина Люпа сокращает и начинает диалог с реплики Нины, которая почти хулигански окликает «известного писателя», спрашивая «в лоб»: «Как чувствуется известность?».
В разговоре об известности режиссер купирует слова Нины о «чудесном мире», открывающийся избранным в отличие от тех несчастных, которые влачат серое, скучное существование. Вместо этого Люпа сталкивает реплику Нины: «Как я завидую вам!» с репликой Тригорина: «Я должен сейчас идти и писать». Здесь режиссер вводит достаточно сильный символический образ. Тригорин, действительно, намеревается уйти от Нины и открывает одну из дверей, расположенных в левой части сцены. А дверь эта изнутри оказывается золотой, да еще и подсвеченной из-за кулис ярким лучом прожектора. Однако, открыв «золотую дверь», Тригорин тут же захлопывает ее и возвращается к Нине, чтобы продолжить разговор об «известности» и тяготах писательского труда.
Люпа последовательно концентрирует внимание зрителей на проблеме воплотимости в человеке (или актере) духовной идеи. Акцент в монологе Тригорина делается на бремени публичной профессии. Режиссер к тому же и мизансценически подчеркивает конфронтацию героя с публикой. Тригорин в спектакле садится на край сцены, свешивая ноги в зрительный зал. При этом Люпа так выстраивает отношения героев друг с другом и их монологи, что создается ощущение, что в объекте их внимания все время присутствует зритель. Тригорин открыто обращается в зрительный зал Александринского театра.
За восторженной репликой Нины о бескорыстном служении искусству и славе Люпа вставляет эпизод, который отсутствует у Чехова. Нина вновь забирается на лестницу, а фигура Тригорина высвечивается на авансцене. И в это мгновенье на заднем плане, в пределах красной светящейся рамки раскрывается экран, на котором мы видим Костю, мечущегося в каком-то замкнутом пространстве и отчаянно
произносящего монолог Мировой души из своей пьесы. Однако интонации Кости здесь отнюдь не поэтическо-вдохновенные, а нервные, резкие, отчаянные. Этот монолог окрашивается его внутренним душевным состоянием, а интонации напоминают адские качели.
Следом за возникшим на экране видеофрагментом на сцену стремительно вбегает сам Треплев с ружьем в руках и лихорадочно пытается приладить дуло ружья так, чтобы выстрелить в себя. Вслед за ним выбегает Яков, который пытается вырвать из его рук ружье. Между ними завязывается борьба. Люпа вставляет придуманные им яростные реплики Треплева и Якова. Треплев кричит, что все равно совершит самоубийство, Яков в ответ - что не даст этого сделать. В экземпляре помощника режиссера отмечено, что именно в этот момент ярко загорается красная рамка. Видение исчезает, когда слышится из-за кулис крик Аркадиной. Происходит как будто бы пробуждение, и мы вновь видим беседующих Нину и Тригорина.
Эта инверсия необходима режиссеру для того, чтобы подчеркнуть контраст «выстраданного» и «невыстраданного» искусства. Практически Люпа визуализирует кризис личности человека, становящегося художником. Режиссер раскрывает нам картину ада, через который проходит Треплев и путь к которому еще только выбирает Нина. Эта картина раскрывается вместо той «золотой двери» в чудесный мир, о котором мечтает Нина. И то, что эта картина возникает за спиной Тригорина, повествующего о муках профессионализма, подтверждает мысль о том, что этот ад подстерегает любого художника, избравшего искусство своим призванием и профессией.
Когда свет возвращается на авансцену, Нина говорит о доме, в котором она родилась и который остался на другом берегу озера. Эта фраза в новом контексте приобретает символический характер. Рубикон будет перейден: Нина готова совершить выбор и покинуть свой дом и свою прежнюю жизнь. Соответственно, в этом же контексте воспринимается теперь и убитая Треплевым чайка. Именно здесь Нина превращается в «подстреленную искусством натуру», что мгновенно угадывает Тригорин, в голове которого рождается «сюжет для небольшого рассказа».
Нина и Тригорин уходят, в это время на сцене появляется Потерянный, который и подбирает оставшуюся лежать на сцене бутафорскую чайку. Потерянный в этом своем выходе уже не зритель, а человек сцены. Он как будто в равной мере принадлежит и залу, и сцене
одновременно. Именно здесь мы впервые начинаем воспринимать его как человека, потерявшегося между искусством и жизнью.
А следом за Потерянным на сцену выходят основные герои пьесы, рассаживаются так же, как они уже сидели в начале второго акта, и вновь начинается чтение Мопассана. Люпа вставляет фразу: «И тем не менее, мы продолжим.», которую произносит Дорн. Таким образом, режиссер выстраивает некий психологический трюк, заключающийся в том, что все предыдущие сцены начинают восприниматься лишь как игра воображения. Реальность только что виденного ставится под сомнение, стирается грань между жизнью и художественным воображением. А сама сцена чтения Мопассана в сознании героев и зрителей воспринимается уже как что-то некогда бывшее.
Люпа создает сложное над-временное пространство действия, в котором герои ощущают друг друга и персонажами, и зрителями одновременно.
Режиссер сокращает знаменитую сцену, где Нина, говоря о возможности грядущей встречи, дарит Тригорину медальон с заветными словами признания. Люпа игнорирует интригу с медальоном, стремясь стереть налет «хорошо сделанной пьесы», приемы которой порою намеренно использовал Чехов. Также в обрисовке отношений героев режиссер избегает затянутости и сентиментальных подробностей, которые вне связи с философским контекстом пьесы открывают «лазейку» для мелодраматизма.
Развивая линию отношений Треплева и его друга-помощника, режиссер предваряет выстрел Константина отчаянным криком Якова. То, что звук выстрела в спектакле Люпы перенесен из финала пьесы в середину спектакля, тоже весьма знаменательно. Именно здесь, где Треплев впервые сталкивается с внутренним адом художника, где страдает и испытывает катастрофу его человеческое «я», происходит реальный выстрел.
Люпа напрямую связывает с этим выстрелом и приступ дурноты у Сорина. У Чехова Сорин реагирует на слова Аркадиной, ханжески жалующейся на безденежье и не желающей материально помочь сыну. К тому же, в оригинале пьесы в разговор Аркидиной и Сорина невпопад вклинивается Медведенко со своей idée fixe о скудной обеспеченности учителей, что вызывает раздражение обоих собеседников. Все это сложное бытово-ассоциативное построение сцены Люпа заменяет прямой реакцией на выстрел, который то ли реально, то ли каким-то внутренним
слухом слышит Сорин. При этом Аркадина, пораженная обмороком брата, как будто бы и не слышит этот выстрел. В этом контексте мы даже не вполне понимаем, кому кричит Аркадина «Помогите!». В связи с чем она просит о помощи? По ремарке режиссера она кричит вслед убегающему в зрительный зал Якову, то ли призывая помочь Сорину, то ли умоляя спасти сына. Эта неясность, специально порожденная режиссером, создает объем ситуации, делает ее символичной.
Сцена «укрощения» Тригорина воспроизводится в спектакле полностью по тексту пьесы за исключением нескольких купюр в репликах обоих героев. В центре оказываются аргументы Аркадиной, воздействующие на писательское самолюбие Тригорина. При этом Люпа иронически подает эмоциональные тирады Аркадиной, которая, падая на колени и срывая с себя платье, изображает страсть подчеркнуто театрально. Люпа пропускает ситуативный нюанс, когда Аркадина, как будто испытывая неспособность Тригорина сопротивляться ее воле, предлагает ему остаться. Так же купировано и его собственное признание в своей мягкотелости. Это свойство характера Тригорина в контексте спектакля уже не требует специальных доказательств. Далее режиссер сокращает всю сцену проводов Аркадиной, а вместо сцены последнего тайного свидания Нины и Тригорина идет короткий эпизод, в котором Нина дважды безответно задает вопрос: «Когда же мы увидимся?».
Тригорин, промолчав, уходит, а Нина вдруг начинает читать финальный монолог Сони из пьесы Чехова «Дядя Ваня». Это достаточно сильный ход режиссера. Ведь здесь впервые жизненная и артистическая стихии у Нины соединяются. Здесь впервые ее личные чувства находят воплощение в роли, текст которой она уже не по указке, а под воздействием какого-то таинственного, подсознательного импульса начинает произносить с предельной силой и искренностью. Поразительно то, что Люпа точно угадал ход мысли Чехова, словно проник в его творческую лабораторию. Ведь на самом деле Чехов взялся за переделку своей неудавшейся пьесы «Леший» в будущего «Дядю Ваню» практически сразу вслед за провалом «Чайки». Исследователи творчества Чехова обращали внимание на то, что финальный монолог Сони в чем-то перекликается с финальным монологом Нины Заречной, словно продолжая и развивая его. Однако в спектакле Люпы Нина начинает читать Сонин монолог задолго до финала, еще не прожив той жизни, которая сложится у нее после бегства из дома. Режиссер
«Чайка». Александринский театр. А. Шимко - Тригорин, С. Еликов -Медведенко, В. Коваленко - Шамраев. Фото из архива театра
хочет подчеркнуть, что Нина произносит текст еще невоплощенной, еще недосочиненной пьесы. И это художественное, глубоко личное, какое-то тайное, подсознательное предчувствие играет здесь первостепенную роль.
Финал второго акта включает в себя четвертое действие чеховской пьесы. Здесь Кристиан Люпа исходит из чеховского принципа действенного контрапункта, который был открыт и использован драматургом в последней части «Чайки».
Открывающий действие диалог Маши и Медведенко частично сокращен режиссером. Он убирает реплику Маши, зовущей Треплева, которого, по ее словам, ищет Сорин. Для него гораздо большее и, пожалуй, центральное значение имеет разговор о непогоде и разрушенном театре. Режиссер обнаруживает, что Чехов «закольцевал» композицию пьесы, начав четвертый акт сценой, рифмующейся с самым началом «Чайки». И там, и там речь идет о театре, созданном творческой фантазией художника. В начале пьесы состояние природы настраивает на вдохновенно-поэтический лад, на сотворение нового театра, и герои предвкушают слияние душ творца и исполнителей, а в финале они же поражены «ужасной погодой», разрушенным театром и разладом душ. Люпа подхватывает и развивает образ, заданный Чеховым в четвертом действии.
«Чайка». Александринский театр. А. Шимко - Тригорин. Фото из архива театра
В финале пьесы события происходят в гостиной, превращенной в кабинет писателя. Это экстраполирование творческого мира на жизненную реальность обостряет конфликт двух миров, в которых одновременно обречен существовать художник. Соответственно, в спектакле все четвертое действие идет на фоне опущенного задника, изображающего стену полуразрушенного дома с отсутствующими перекрытиями и дверными проемами, расположенными на разных уровнях. Стены этого дома были окрашены в красный цвет и казалось, здесь, в этом символическом пространстве царствуют страсти, вскипает безумие.
Слева, на втором плане стоит стол, над которым висит лампа. Вокруг этого стола будет происходить игра в лото. А справа, чуть впереди (почти на авансцене) займет свое место красный диван, который будет обозначать место горячих драматичнейших «разборок» человека со своими мечтами и с жизненной реальностью. Именно поэтому вокруг него будут строиться мизансцены Полины Андреевны с Дорном, Нины с Треплевым, и Сорина («человек, который хотел.»).
Разговор Дорна и Треплева о Нине Заречной в спектакле лишен присутствующих у Чехова повествовательных подробностей. В композиции Люпы перипетии жизни Нины излагаются достаточно конспективно. Внимание сконцентрировано прежде всего не на ее жизненных невзгодах, а исключительно на творческой судьбе. Треплев в спектакле
не рассказывает о том, как ездил за ней, о том, что писала она ему в своих письмах. Сокращены подробности ее возвращения в родные края, о блуждании вокруг имения, об отношениях с отцом и мачехой. Сразу же звучит вопрос Дорна о наличии у Нины таланта, на что Костя отвечает весьма уклончиво (но, в отличие от текста Чехова, не в прошлом, а в настоящем времени). Весь этот диалог в спектакле Кристиана Люпы идет в присутствии Нины, которая незримо для собеседников появляется в дверном проеме, открывшемся вверху красной стены.
Реплики Медведенко и Сорина по поводу Нины сокращаются, и сразу следует появление Аркадиной, Тригорина, Шамраева и Якова с чемоданами. Их разговор с Треплевым в спектакле сокращен. Оставлен лишь намек на былую «пикировку» Аркадиной с управляющим и упоминание о том, что Тригорин привез журнал с напечатанной повестью Константина. Сокращены слова Тригорина, который рассказывает о заинтересованности читающей столичной публики личностью Треплева.
Начало игры в лото, отказ участвовать в этом занятии и уход Треплева, обсуждение Тригориным и Дорном произведений и писательской манеры Константина - все это купируется в композиции. Уходит и саркастическая фраза Треплева о том, что Тригорин в привезенном журнале прочел только свою повесть, а треплевскую «даже не разрезал».
Противопоставление творческой манеры Треплева писательскому ремеслу Тригорина также уходит из спектакля. Поэтому сокращается и тот эпизод, в котором Шамраев подает Тригорину чучело подстреленной Константином чайки. Противопоставление чучела живой натуре, ремесла - поэтическому восприятию мира будет потом развито Чеховым в финальных монологах Треплева и Нины. Однако Люпа сокращает монолог Константина о муках творчества. Зато режиссер оставляет тему Нины-чайки-актрисы в финальных репликах Заречной. Здесь тема обретения «двуединства» женщины-актрисы, человека-художника, к которой все время возвращается Нина, становится для Люпы главной и всеобъемлющей.
Монолог Треплева (его размышления о творчестве), который он произносит, сидя за столом в одиночестве (после того, как Аркадина и все общество уходят ужинать), сокращен практически до двух фраз. Оставлены лишь слова о «новых формах» и об опасности сползания к рутине, а также вывод Треплева о том, что каждый пишет, потому что «это свободно льется из его души». Хотя в спектакле Костя не договаривает фразу. Здесь Люпа невольно наталкивает нас на мысль о том,
что Костя практически готов повторить слова самого Тригорина, сказанные в первом акте: «каждый пишет, как хочет и может». Разница заключается в том, что Треплев у Чехова говорит о душе. Костя в финале спектакля Люпы как раз это-то слово и не договаривает.
Режиссер строит сцену таким образом, что Треплев воспринимает и сидящих за столом, и явившуюся к нему Нину немножко со стороны, как предмет наблюдения и воплощения в своем творчестве. В финале его позиция на сцене - это позиция наблюдателя жизни и творца одновременно. Покидая общество Аркадиной, занятое игрой в лото, Треплев в пьесе Чехова начинает играть на пианино меланхолический вальс. В спектакле режиссер не уводит героя за кулисы, а предлагает ему наблюдать за игрой в лото, взобравшись на пианино. Именно здесь и происходит для героя главный перелом. Доходя до слов о душе, Треплев резко спрыгивает с пианино, происходит затемнение и раздается оглушительный звук разбивающегося стекла. Люпа вместо выстрела, которым в пьесе Чехова Треплев убивает себя, дает звук «лопнувшей склянки с эфиром». Режиссер предлагает не жизненно-реалистическое, а метафорическо-образное разрешение конфликта. Прыгая на планшет сцены, окунаясь в жизнь, Константин таким образом словно оказывается в пространстве творчества. И потому, когда свет вновь зажигается, мы видим одновременнно и застывшую в отдалении группу игроков в лото, и появившуюся на красном диване Нину.
Словно угадывая первоначальный замысел Чехова, Люпа создает психологический эффект незримого присутствия некоего зрителя, свидетеля вполне интимного разговора Нины и Треплева. Не случайно Костя словно режиссер начинает «выстраивать» мизансцену финального монолога Нины, регулируя освещенность на втором плане, где сидят, не покидая сцену, игроки в лото. Делая Треплева и участником события, и режиссером какой-то новой пьесы, Люпа вновь сталкивает реальность и театр.
Сокращены объяснения Треплева и Нины. Из текста уходит собственно «любовный», мелодраматический оттенок. Остается только рассказ Нины о том, как она обрела, наконец, актерское призвание и научилась терпеть. В композиции Люпы нет также патетических слов Нины об умении «нести свой крест и веровать». Нет также и отчаянной реплики Треплева о его неспособности уверовать в свое призвание.
Вместо этого идет монолог Мировой души, который вновь произносит Нина и которым завершается композиция.
В спектакле отсутствует сцена ухода Нины и возвращения игроков. Отсутствует констатация самоубийства Треплева. Вместо этого зритель видит, как Нина под звуки песни канадской певицы с символическим именем Lhasa, повествующей о возращении человеческой души к самой себе (в свой город), ритмично двигается по сцене, а Константин задумчиво наблюдает за ней, как будто обдумывая какой-то творческий замысел. Остальные герои пьесы наблюдают за Ниной и Треплевым. Они становятся зрителями разворачивающегося на их глазах нового спектакля. А за спиной Нины, на лестнице мы видим фигуру сидящего Якова, который словно застыл в ожидании выполнения новой задачи автора. Здесь обнаруживается почти неуловимый и хрупкий баланс жизни и творчества, страданий и вдохновения, который в любую минуту готов нарушиться и ввергнуть героев, творцов и зрителей в бездну конфликтов и противоречий.
Адаптация чеховской «Чайки», сделанная Кристианом Люпой для Александринского театра, являет собой удивительный по глубине проникновения в образно-философский мир драматурга опыт творческой интерпретации одного из самых загадочных и неуловимых произведений мирового репертуара. В нем режиссер сумел ухватить главное, что волновало Чехова и прошло через все его творчество - столкновение двух метафизических универсалий, определяющих судьбу человека; столкновение мечты и реальности, которое развертывается на острой, кровавой грани жизни и театра.
Присутствие видимого или невидимого зрителя в монологах, диалогах и целых сценах - сложный психологический феномен, который делает театр из собственно эстетического явления - экзистенциальным. И Кристиан Люпа на материале чеховской «Чайки» исследует этот феномен многосторонне. Режиссер улавливает глубочайшее открытие Чехова, который сумел предощутить в своей драматургии эффект остранения, воспроизведя многофокусное воплощение и восприятие персонажей - изнутри и со стороны. В этом виделся исток сложной жанровой ориентации его пьес, неуловимой для современного Чехову театра. Кристиан Люпа, рассматривая Чехова сквозь призму художественных открытий его последователей, сквозь ту перспективу, которая открывалась искусством ХХ в., тонко улавливает и раскрывает в тексте «Чайки» мотивы театральной игры, экстраполируемой в жизнь. Именно поэтому фраза Сорина: «Без театра нельзя» - приобретает в контексте композиции спектакля особый символический смысл.
Все они и каждый из них в той или иной мере повторяют жизненный путь самого пожилого героя этой пьесы - Сорина, по его собственному определению, «человека, который хотел». Все они и каждый из них в той или иной мере - хотели, но никто так и не добился желаемого по собственной, заметим, вине. Питательной средой чеховской комедии «Чайка» являются не только «пять пудов любви», но и пять или даже десять пудов распроклятых этих хотений, без которых вообще нет чеховских героев. Такая уж им уготовлена доля - хотеть, но никогда не осуществлять до конца своих хотений. Жить - это не удел чеховских персонажей, им судьбою предначертано именно хотеть…
Семь Чаек в этой чеховской пьесе - как семь чудес света или как семь дней недели: они удивительны своей непременностью и непременны своей сущностью. Они вечны своей неброской обыденностью, вечны, как те же чеховские Фирс или Сад, что в конце–то концов выражает одно и то же: неизменность и неотменяемость любых жизненных проявлений. Все семь, они открывают друг в друге Чайку, но потом постепенно ее же друг в друге и убивают. По мере развития сюжета происходит освобождение избранного символа от груза первоначальных поэтических заданий.
На место восьмой Чайки могло бы претендовать, в конце концов, ее чучело, предъявленное Шамраевым в конце пьесы Тригорину, однако ж нет: в чучеле убитой Треплевым птицы как раз меньше всего Чайки (в символическом, разумеется, значении слова). Труп птицы плохо отождествляется с самой птицей, олицетворяющей прежде всего движение, полет, устремленность к неким дальним высям. В тело летящей птицы, как известно, поселяются души умерших людей, что есть знак преодоления, отчуждения смерти, перехода из земного бытия в другое, вечностное, инобытие - в царство Мировой души.
Итак, чучело чайки уже не воспринимается символом, а становится всего лишь экспонатом домашнего зоологического музея. Подмена символа на его муляж осуществляется стремительно:
Ш а м р а е в (подводит Тригорина к шкапу).
Вот вещь, о которой я вам давеча говорил… (Достает из шкапа чучело чайки.) Ваш заказ.
Т р и г о р и н (глядя на чайку).
Не помню. (Подумав.) Не помню!
И это, заметьте, скажет человек, некогда «заказавший» убийство Чайки в своем писательском дневнике: «…на берегу озера с детства живет молодая девушка, любит озеро, как чайка, и счастлива, и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил ее, как вот эту чайку».
Теперь же Тригорин не отменяет, а отвергает собственный «заказ»: его «сюжет для небольшого рассказа» аккуратно расположится между этими только внешне одинаковыми словами: «Не помню». Весь этот «сюжет» уместится в паузе «Подумав» - фирменный чеховский литературный прием.
Две пьесы - ненаписанная пьеса Тригорина и написанная пьеса Треплева - сольются в одном причудливом течении чеховской трагикомедии «Чайка». «Сюжет для небольшого рассказа» Тригорина выступает здесь против «декадентского бреда» Треплева. Примечательно, что там и там на главные роли была назначена и вдохновенно их исполнила одна и та же женщина - Нина Заречная, правильнее было бы сказать: Заозерная. Треплев бросит вызов Тригорину, но тот не примет приглашения на дуэль, вернее, он будет все же вовлечен в эту дуэль самим Чеховым, который и окажется в ней победителем.
«В первый раз,
- замечает Л. В. Карасев, - стоя возле убитой чайки, Треплев пообещал убить себя, во второй, когда чучело достали из шкафа, исполнил свое обещание. Чехов по-новому связал символ и сюжет: буквализировав метафору, он тем самым перевел ее в иное состояние, срастил с „прозой жизни».
Так возникло то странное сочетание символизма и реальности, которое в начале века многим казалось ложным и неорганичным»(1) . Многим, но не всем: игравший Треплева Мейерхольд, например, именно так и понимал суть сценического искусства: «Современный стиль на театре - сочетание самой смелой условности и самого крайнего натурализма»(2). Стиль этот отнесут к «модерну», но чеховскую «Чайку» в момент ее преждевременного (то есть опередившего время) появления не будут и знать, к чему приписать. В самом ее названии сразу же обнаружится масса загадок: сколько смыслов таит в себе этот птичий символ? И кто же в пьесе Чайка? Нина? Одна только Нина и т. д., и т. п.
«Птица как символ высокого человеческого духа,
- отмечает М. Мурьянов,- известна во все времена эпохи мирового искусства, но для запредельных состояний, помещаемых художественным воображением Треплева за финалом всемирной истории, эта роль должна быть отведена именно чайке. Это единственная птица, само название которой производно от глагола душевного движения чаять
»(3). Добавим сюда и такие характеристики образа, как окрыляться, воспарять.
Убитая Чайка - это остановленный полет, это отказ движению в праве быть, осуществляться; но никак не тушка выпотрошенной для консервации птицы. Уж где меньше всего признаков Чайки, так это в данной тушке. Тригорин все же лукавит, отвечая Шамраеву: «Не помню!»: он помнит, конечно, Нину-чайку, но чучела он помнить просто не может.
В итоге получается, что чучелу убитой чайки можно уподобить самих героев, растративших свою жизнь по пустякам и тем самым и убивших себя в себе. «Не помню» - эти слова мог бы повторить вслед за Тригориным любой из семи героев, которые, конечно же, прекрасно помнят о том, что с ними происходило и происходит, но признать это напрямую, вслух - значит действительно подписать себе смертный приговор, убить себя не от «нечего делать», а от «делать нечего». Им приходится отрицать очевидное не по своей воле, а по приказу или даже произволу уготованной им судьбы.
Трагизм чеховской пьесы о Чайке как раз в том, что ни один из семи названных претендентов на этот чрезвычайно емкий образ не достигает его пределов, в разной степени не совпадает с ним. Каждый из них всего-навсего - тень Чайки или даже ее пародия. Место самой Чайки остается в пьесе вакантным: любого из семи претендующих на него персонажей все же не удается окончательно отождествить с Чайкой.
«Образ чайки, имеющий обобщенно-символический смысл, по мнению Н. И. Бахмутовой, варьируется и изменяется в пьесе в зависимости от того, в связи с каким персонажем он выступает»(4).
Чеховская «Чайка» с семью эмблематичными персонажами, содержащими в той или иной степени признаки одного символа, - завершенная, окончательная история. И потому эта история - вечна: ведь за воскресеньем не бывает ничего, кроме понедельника, - и снова, и опять, и опять. И еще это история - обыденная, повседневная и, главное, мимолетная, основанная на импрессионистском взгляде на жизненные явления, возникшая словно бы из ничего:
С о р и н.
Через двести тысяч лет ничего не будет.
Т р е п л е в.
Так вот пусть изобразят вам это ничего
.
«Изобразят вам»
- Треплев в этих словах, предваряющих его спектакль о Мировой душе, как будто бы уклоняется от ответственности за него. «Изобразят вам» - это он апеллирует к бедной Нине, бледнее «бледной луны» ожидающей своего дебюта за чахлым занавесом домашнего театра. Кажется, будто оперу Вагнера сейчас исполнят в бане или в курятнике: комедия да и только…
Обыкновенная история про «ничего», предложенная нам не Треплевым, а породившим и убившим его Чеховым (5), проникает в нас не сверху (место обитания Мировой души) и не снизу (милое усадебно-деревенское захолустье), а откуда-то сбоку. История эта - зеркальная, как поверхность озера, на берегу которого она и происходит: мы вдруг сами отражаемся в ней сквозь обличья так похожих на нас чеховских персонажей. Да, именно так: не они в нас, а мы в них. Мы объединяемся, сливаемся с чеховскими персонажами, как удивительная уличная толпа в Генуе, поразившая путешествовавшего по Италии циника Дорна. (Между прочим, французский режиссер Луи Малль в американском фильме «Ваня на 42–й стрит» увидел героев «Дяди Вани» аккурат в нью-йоркской толпе, среди многих сотен спешащих по своим делам людей: он буквально вписал экранных героев Чехова в заэкранную повседневность, в уличную толпу.)
Мотив случайности как основополагающий элемент литературы абсурда занимает в этой чеховской пьесе ведущее место: «…случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил ее, как вот эту чайку».
«…Именно в чеховских пьесах,
„принцип случайности» из обычного литературного приема превратился в принцип конструктивный. В „случае» объявляет себя исходный смысл текста: он как бы на мгновение овеществляется, зависает над пьесой, делается одной из его эмблем. Не повторяется то, что произошло случайно. Жизнь, понятая, увиденная как случай, как игра природы, становится чем-то ненадежным, эфемерным. У Чехова все персонажи живут сразу в двух временных измерениях. Они проживают не только свои нормальные человеческие жизни, но и подчиняются времени природному
»(6).
Самым ярким примером воплощения данного типа человеческого героя, добавим мы, является персонаж «Вишневого сада» Фирс - последний персонаж уникальной чеховской драматургии, завещанный (приговоренный к смерти, но неумерший) всем нам персонаж. И, конечно же, подобной двойственной жизнью живут семь героев «Чайки», разрываясь между реальным своим положением и желаемым, чаемым.
Представим себе на минуту нечто крамольное: Треплев попросту может быть неприятен окружающим, как тот же чеховский Соленый, например. Он ищет понимания и сочувствия у всех и вместе с тем полон ко всем же претензий.
Да, Нина быстро переключила внимание на Тригорина и с этого момента, между прочим, самоотверженно понесла свой крест. А почему, собственно, она должна быть увлечена Треплевым? Чем он способен пленить ее? Уж не этим ли бредом о Мировой душе?.. После заслуженного провала представления Костя к тому же повел себя весьма по-детски: обиделся на всех и сбежал. А каково было Нине - там, за наспех задернутым занавесом? Уж ей-то точно в еще большей степени необходимо было исчезнуть по-английски: не попрощавшись.
И почему, кстати, Треплев сам не вызвался исполнить собственное сочинение? Он все–таки уже новатор театра, а Нина пока еще не актриса. Может, Мировая душа должна быть изображена женщиной в пантомиме, но озвучена мужчиной? Может, Мировая душа - двупола? Может, это Адаму и Еве, потерявшим планету Земля, и холодно, и пусто?..
Так или иначе, всегда остается возможность не верить в вероятность прочного союза Треплева и Нины. И еще неизвестно, кто в большей степени тогда провалился - Треплев как декадент на любительской сцене или Треплев как русский человек на rendez-vous в реальной жизни? Будем справедливы: впоследствии Тригорин поступит не многим лучше Кости - бросит Нину.
Тригорин очень точно воплотит в реальность собственный «сюжет для небольшого рассказа»: случайно пришел человек, увидел на берегу озера девушку и от нечего делать погубил. «Человеком» в данном сюжете окажется сам же Тригорин. Умудренный житейским и писательским опытом, он заранее предположил дальнейший ход событий и, по сути, предупредил Нину об опасности сближения с ним. Но ведь и Треплев, невольно подтолкнувший Нину к Тригорину, тоже часть этого же самого «человека»: «Я имел подлость убить сегодня эту чайку. Кладу у ваших ног».
Когда же Тригорину напомнят о подстреленной чайке, тот, как уже говорилось, ответит: «Не помню».
Вот он, печальный финал «небольшого рассказа», точнее, новеллы о Нине Заречной.
«Не помню» Тригорина и повторение Ниной обрывков монолога Мировой души, в тексте которого она обнаруживает теперь и личный смысл, - все это органично входит в память самого «сюжета для небольшого рассказа» и делает судьбу героини поистине драматичной.
Тригорин силен своей слабостью, если хотите, внешней ординарностью, кажущейся простотой. Треплев же, напротив, слаб демонстрацией некой силы, своим назойливым ряжением в разрушителя канонов, новатора. Конечно, он молод - а энергия молодости, как правило, не лишена агрессии, не избавлена от разрушительных токов. Тригорин старше и мудрее, Треплев моложе и простодушнее. Тригорин по-настоящему интеллигентен и потому с большим тактом реагирует на поведение Треплева и уж тем паче не стремится сделаться его оппонентом.
Старик Сорин искренне завидует им обоим: он-то точно знает, что жизнь свою прожил зря.
Более других Треплев любит себя. В отношениях же его с Ниною мало настоящего - не больше, пожалуй, чем в сочиненной им пьесе, жанр которой точно определит его ревнивая к чужим успехам и чужому счастью мать: «декадентский бред». Мать тоже эгоистична, как и все актрисы, но все же у нее достает воли прощать Тригорину очевидные его грехи, достает силы и решительно сражаться за него с не меньшей энергией, чем у Полины Андреевны, самоотверженно хлопочущей вокруг Дорна.
Конфликт между талантом творить и талантом жить - вот где следует искать корни сюжета чеховской пьесы.
Прямые отсылки к Шекспиру перед началом треплевского спектакля причудливым эхом достигают финала пьесы «Чайка». Трагедия проникает в ее сюжет незаметно, как лучи заходящего солнца. Только что был день - и вот уже надвигается ночь. Только что было то, что было, но вот в нем уже проступают очертания того, что будет. Это и есть чеховское «есть», чеховское «сейчас».
Треплев, как традиционный для всей чеховской драматургии герой, не выдерживает испытания этим «сейчас». Он запутывается между собственными прошлым и настоящим. И, осознав это, декадент Треплев решается на свой последний декадентский поступок - стреляется. А перед этим, заметьте, он эстетизирует, театрализует свой уход, вдохновенно музицируя на рояле. И обрывается не просто жизнь - обрывается мелодия жизни.
Это может показаться явным перехлестом, но все же нелишне, думается, взглянуть на взаимоотношения Тригорина и Треплева как на взаимоотношения Моцарта и Сальери. Разве нельзя, например, усмотреть в поведении Треплева все ту же сальеривскую зависть? Разве не руководит зависть (не она одна, но и она тоже) многими треплевскими поступками? Разве не чувствует себя Треплев обделенным и униженным рядом с благополучным Тригориным? Разве не уступает он Тригорину в таланте жить? Талант жить включает в себя и творчество, и любовь.
Посудите сами: Тригорин, мало того, что, по существу, заместил на супружеском ложе Костиного отца, он еще, не прилагая к тому ровно никаких усилий, отнял у Треплева Нину. Прибавьте к этому действительное благополучие Тригорина в художественной жизни, его известность, славу, признание - что же прикажете делать неудачнику Треплеву? Да убить этого Тригорина мало - уже за то, что он есть, что он вот так вот уверенно живет и благоденствует. Обида и зависть не дают Треплеву покоя - и он действует, действует, действует, постепенно доводя дело своей жизни до трагикомического конца. Треплев, повторим, и стреляется не просто так, а назло окружающим, как некогда другой юный чеховский персонаж назло другим решается прищемить себе палец…
«Константин,
- замечает финский режиссер Р. Лонгбакка, - хочет быть художником, он должен быть художником - не потому, что у него есть потребность выразить или что-то передать своим искусством, а потому, что он воспринимает искусство как единственный способ быть принятым. Прежде всего он хочет быть принятым своей матерью. И, конечно, своим основным соперником он считает Тригорина, любовника матери, модного писателя, человека, которого Константин воспринимает как ровесника, потому что он намного моложе матери
»(7). И далее Р. Лонгбакка так уточняет свое понимание Треплева: «…для Константина любовь и искусство связаны воедино, и он считает одно необходимым условием для другого. Человек может любить, только если его принимают, благословляют, а для этого человек должен быть счастливым. А быть счастливым есть только один способ - быть художником. Так что истинная причина попыток Константина стать писателем - это желание произвести впечатление на любимую, а его любимая - это, может быть, и Нина, но в первую очередь - это его мать
» (8).
В чеховской пьесе существуют как бы два Треплева - Треплев начала и развития действия и Треплев его финала.
Зададимся вопросом: всецело ли вытекает другой Треплев из первого, или все же остаются зазор, некая нестыковка двух разнопериодных состояний одного человека?
Думается, что этот зазор, эта нестыковка имеют место быть. И как раз в нем, в душевном сломе героя, произошедшем (обратите внимание) во внесценическое время, в невидимые для нас и в неведомые нам месяцы, дни и часы, таится отгадка последующего поведения Треплева. Но при всем при том он вовсе не вставал специально на путь, ведущий к самоубийству. Оно оказалось неожиданным и для него самого. Скажем так: самоубийство случилось потому, что оно - случилось. В другом Треплеве на миг будто бы пробудился тот первый, тот предыдущий человек: Треплев-декадент снова взбрыкнул, снова «пошалил» в нем. И Костя в тот момент (подчеркнем еще раз) был не столько в состоянии аффекта, сколько в состоянии «эффекта», то есть в декадентском состоянии, в позе, которая на трезвую будничную голову может быть объяснена предельно резко: «делать нечего» или «с жиру бесится».
Американский исследователь Дж. Кёртис следующим образом трактует «раздвоение» Треплева: «Если в Тригорине Чехов выступает предшественником, который помнит, что значит быть эфебом, то в Треплеве он и остается эфебом с остро выраженной социальной позицией аутсайдера из среднего класса, который мечтает стать предшественником. Самоубийство Треплева - это убийство эфеба в себе самом, то есть в Чехове. Но это очищение предполагает, что имеющее место в пьесе самоубийство не носит автобиографического характера. Чехов-эфеб превращается в предшественника, „раздваиваясь» при этом на два самостоятельных персонажа. Данное „раздвоение» призвано акцентировать читательское и зрительское внимание на неизбежных сложностях творческого процесса, чего, разумеется, не мог миновать и сам писатель Чехов»
(89). Внутренний конфликт этой поистине новаторской пьесы, считает Дж. Кёртис, как раз в том и состоит, что Чехов, освободившийся от страха влияния Тургенева, который длился пятнадцать лет, соединил в ней «эфеба, каковым он был, и предшественника, каковым он стал»
(10).
Внутренний конфликт пьесы еще в том, что символ птицы-жертвы в конце концов обретает мистические черты птицы-палача. Это конфликт теней Чайки с самой Чайкой - убитой, но неуничтоженной.
«Согласно поверью,
- указывает Л. В. Карасев, - убитая чайка приносит несчастье. Треплев застрелил чайку, не скрывая своей готовности разделить ее участь и быть убитым самому. Так и случилось: погибшая птица сделала все, чтобы наказать убийцу. Чеховская „Чайка», увиденная таким образом, становится историей осуществившейся мести, историей о преступлении и наказании
»(11). «В „Дяде Ване» или „Вишневом саде»,
- добавляет далее исследователь, - в подобных положениях есть хотя бы намек на то, что „наказание» как-то соотнесено с „виной». В „Чайке» же бессмысленность и жестокость жизни явлены с наибольшей резкостью и решительностью»
(12). Так вот, эти самые мотивы бессмысленности и жестокости жизни сближают старую чеховскую пьесу с относительно новым рассказом Дю Морье и в еще большей степени со снятым по нему фильмом Хичкока. Иногда даже начинает казаться, что кинематограф Хичкока весь вышел из чеховских «Чайки» и «Вишневого сада», как русская литература - из гоголевской «Шинели». «Звук лопнувшей струны» из «Вишневого сада», равно как и грозный вестник его Прохожий, есть резко усиленный сигнал бессмысленности и жестокости жизни. Финал «Вишневого сада», как известно, подводит нас к порогу трагедии: в наглухо заколоченном доме забывают старого человека - чистой воды триллер.
Получается, что в чеховской пьесе «Чайка» наметилось, а в «Вишневом саде» умножилось и закрепилось то, что еще не произошло, но что, увы, вполне может когда-нибудь произойти. И произойдет…
Фильм Хичкока не имеет привычного титра «Конец», а как бы завершается вселяющим новые тревоги многоточием. А чем, скажите, заканчивается чеховская «Чайка»? Константин Гаврилович только что застрелился; мать его еще не ведает об этом; Нина пока тоже - да она и без того, кажется, навсегда вышиблена с благополучной колеи жизни; Сорин не сегодня-завтра умрет; Маша уже давно несчастна и, не смущаясь, носит траур по своей жизни; Полине Андреевне уже никогда не быть обласканной Дорном и т. д. - одним словом, на «пять пудов любви» тут приходится двадцать два пуда несчастий.
Чучело чайки, извлеченное из шкафа, настаивает быть возвращенным из небытия - оно нуждается в непременном признании в людской памяти. В качестве «скелета в шкафу» чучело таит в себе не тайные, а явные угрозы. Предфинальная сцена последней встречи Треплева с Ниной выглядит уже не абстрактным «декадентским бредом», как фрагмент его спектакля о Мировой душе, а самой что ни на есть мистической явью, своего рода печальным завершением того старого спектакля. Сцена выдержана в духе шекспировского явления тени отца Гамлета: Нина тоже возникает в этот ненастный осенний вечер, словно тень Чайки. И все, заметьте, подготовлено к тому: буйствует, негодует природа, жалкие остатки былой сценической площадки на берегу озера пугают и видом своим, и тревожными звуками, рождаемыми набегающим ветром. Кажется, вот–вот оживет чучело чайки. Близится миг расплаты. Стремительно растет тревога Треплева. И не только его…
Усадебное местоположение дома, где происходит действие чеховской «Чайки», сохраняется, по существу, и в картине Хичкока «Птицы», который сам пояснил это так в своей беседе с Франсуа Трюффо: «Я инстинктивно чувствую, что страх можно усилить, обособив дом, так что некуда будет обратиться за помощью».
Ряд эпизодов его фильма, где запершиеся в доме люди обороняются от птичьих атак, напоминают нам сцену по-следней встречи Нины Заречной и Треплева (четвертый акт пьесы). Если полагать Нину-Чайку персонажем случившимся, то тогда она, некогда случайно убитая, появляется в четвертом действии пьесы уже как предвестница смерти, настаивая на отмщении, каре за содеянное. Акт вынужденной агрессии Чайки есть следствие людской жестокости и несправедливости. Этот «сюжет для небольшого рассказа» получил многократное развитие и продолжение в литературе и искусстве ХХ века и, обретая к тому же множество все новых трактовок, уже давно сделался большим - романным, эпическим сюжетом.
В произведениях Чехова и Дю Морье присутствует взгляд с земли на небо, у Ричарда Баха, автора повести «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», напротив, взят абсолютно иной ракурс - он взглядывает на землю с неба: небеса, по мысли Баха - это не место и не время, небеса - это достижение совершенства. Эта оппозиция земли и неба красноречивым образом отзывается в нравственных терзаниях Треплева, тождественных, на что указывал сам автор, страданиям Гамлета. Данная оппозиция так распределяется в поэтической структуре чеховской и шекспировской пьес: Константин уподобляет свое несчастье «высохшему озеру», утекшему вдруг в землю; Гамлет же в аналогичной ситуации воспринимает небо, эту «величественную кровлю, сверкающую золотым огнем», как «смешение ядовитых паров» (пер. А. Кронеберга).
Чехов и Дю Морье наблюдают происходящее глазами людей, Бах - глазами Чайки. Отсюда выстраивается и принципиально другая система уподоблений, к которым прибегают автор повести-притчи и ее герой Чайка Джонатан Ливингстон.
У Баха идет речь не просто о соседнем с Землею пространстве, а о внеземном, если хотите, потустороннем, другом мире, находящемся в другом измерении, где только и возможно во всей полноте ощутить разницу между независимостью человека и независимостью неба.
Разумеется, соотносимые с пьесой о Нине и Константине произведения Дю Морье (1952), Хичкока (1963) и Баха (1970) обладают разным художественным потенциалом. Но все они, как могут, так или иначе развивают и обогащают символику чеховской «Чайки», побуждая нас пребывать в тревожном ожидании вселенских перемен.
«Скелет в шкафу», затаившийся в сюжете чеховской пьесы, уже давно извлечен из него, но все еще находится в комнате…
Характеристику матери («психологический курьез») Треплев, обладай он хоть толикой иронии в собственный адрес, мог с еще большим основанием адресовать самому себе, но не в его возможностях было смирить гордыню. Подобным же образом, собственно, вела себя и мать - но она была женщиной и, что самое страшное, актрисой, для которой гипертрофированный эгоизм есть не что-то необычное, исключительное, а, напротив, будничное проявление себя, составная часть профессии. Не будучи Гамлетом, Треплев намеренно отождествляет себя с ним, а мать с ее кавалером Тригориным он, естественно, зачисляет в Гертруды и Полонии. Чехов делает как бы эпиграфом к «декадентскому бреду» Треплева эту стремительную пикировку матери и сына шекспировскими цитатами. Надо ли говорить, что на место Офелии тут неизбежно претендует Нина - и с этой точки зрения за чеховской «Чайкой» впору признать права не просто комедии, но водевиля. Эту жанровую тенденцию пьесы энергично поддерживают персонажи второго плана - Медведенко, Шамраев, уездный «плейбой» Дорн, Полина Андреевна, Маша, лирические страдания которых сам изрядно пострадавший от хлопот неуемных воздыхательниц Чехов не мог воспринимать без улыбки. Как Треплев смотрит на мать глазами Шекспира, так сама Аркадина взглядывает однажды на Тригорина через призму Мопассана. Аркадина, как может, «зеркалит» чувствам и настроениям молодого и маститого литераторов. Она с легкостью «заводит» Треплева, первой обратившись с опасной для нее самой цитатой из Шекспира (читает из «Гамлета»): «Мой сын! Ты очи обратил мне внутрь души, и я увидела ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах - нет спасенья!»
И тот - сын своей матери, а не киевского мещанина - играючи подхватывает вызов: «И для чего ж ты поддалась пороку, любви искала в бездне преступленья?»
Но поскольку упредила его настроения она, сильная и мудрая, то Треплеву и тут, в интеллектуальном этом блиц-поединке, приходится оставаться вторым, а никак не первым. И в этом его трагедия и комедия: хотел быть первым, а всю жизнь пребывал вторым, очень похожим на пожилого своего дядю - «человека, который хотел…».
Таким образом, можно сказать, что данная пьеса Чехова - комедия о людях, которые хотели быть первыми, но оказались вторыми. В положении второй оставалась Маша с ее неразделенной любовью к Треплеву; вечно вторым оказывался и Медведенко - прелюбопытнейший, весьма незаурядный в данном сюжете тип, из которого впоследствии вырастут и в которого «перетекут» и Кулыгин, и Епиходов. Незаслуженно второю чувствовала себя Полина Андреевна, навсегда отвергнутая Дорном. Вторым был Шамраев, стоически несущий свой крест рогоносца. Дузе, Мопассан и Золя, Толстой и Тургенев, по всеобщему признанию, были первыми (по Кёртису: «предшественниками»), а Аркадина и Тригорин, звезда провинциальной сцены и популярный беллетрист, «надежда России», тоже пребывали на пьедестале вторых (то есть, по тому же Кёртису: «эфебов») - серебряных медалистов надвигающегося на русскую культуру Серебряного века. Из всего этого сонма вторых фигура Треплева, «провозвестника века», выделяется в качестве самого открытого, патологически искреннего в своих максималистских порывах и убеждениях человека. Из всех перечисленных вторых Треплев, если можно так выразиться, наиболее второй, самый второй; как из всех семи чаек этой пьесы он - Чайка в наибольшей степени. Тем он и интересен. Треплев добровольно покидает эту жизнь вторым, не в силах смириться с этим своим положением. Но ему нечего противопоставить миру, а в частности, Тригорину - этому самому первому из вторых. Беллетрист Тригорин мастеровит и удачлив (в наши дни он мог бы быть секретарем Союза писателей) и, в общем-то довольствуется этим, а литератор Треплев пока не может овладеть необходимыми любому мастеру пера профессиональными навыками, оставаться же в положении непризнанного гения или, и того хуже, негения он не хочет и не может. Убивший когда-то «от нечего делать» чайку, он убивает теперь себя: делать-то действительно нечего!..
Треплеву бы впору убить не себя, а Тригорина: ведь тот играючи, «от нечего делать» отнял у него Нину и так же играючи бросил, оставшись для нее субъектом немеркнущей - в целых «пять пудов» - любви. «Пять пудов любви» в случае с Ниной обернулись трагедией, а в случае с той же Полиной Андреевной - комедией, фарсом, опереткой; а в случае с ее дочерью Машей - драмой. Оказалось, в сюжете этой пьесы столько же пудов нелюбви.
И сам жанр чеховской «Чайки» не просто комедия в «пять пудов», а эпическая комедия, «комедия рока»(13). «На сюжетном уровне,
- указывает Н. И. Ищук-Фадеева, - это полигеройная пьеса с откровенно редуцированным действием, напряженные моменты которого приходятся на антракт, а самый трагичный момент - самоубийство - происходит на фоне игры в лото, практически не прерывающейся после выстрела
»(14). Далее она замечает: «„Чайка» может быть прочитана как мистическая „комедия ошибок»
(15).
Если история повторяется дважды, существуя вначале в виде трагедии, а потом оборачиваясь фарсом, то у Чехова сюжетное движение осуществляется ровно наоборот - от фарса к трагедии. С наибольшей очевидностью это происходит с тем же монологом Мировой души, сперва доверенным Треплевым Нине, а впоследствии уже присвоенным ею. В четвертом акте Нина, вновь признавшись Треплеву в неостывшей любви к Тригорину, преграждает тем самым ему путь к дальнейшей жизни: монологом он ее «породил», монологом же она его и «убила». Возникшая «от нечего делать» коллизия приводит и других героев к тому, что делать воистину нечего. Треплеву только и остается: не демонстративно порвать свои рукописи на сцене, а, незаметно покинув ее, застрелиться там - за кулисами продолжающейся как ни в чем не бывало жизни.
И как тут не посочувствовать ему и не произнести должных слов в оправдание Треплева; как не пожалеть от всей души этого первого героя первой (из главных) чеховской пьесы, остающейся новаторской и по сей день.
На протяжении всего четвертого акта Треплев еще есть, но его уже нет - как уже давно нет подстреленной им чайки. Засценная смерть Треплева жалка, нелепа и смешна, трагедийный ее комизм очевиден. Не случайно автор пьесы не дает возможности своим персонажам осознать и пережить ее. На первом плане персонажи смеются, играют в лото, а в это время где-то там, за сценою, кто-то стреляется. Тут не просто две жанровые линии пьесы не пересекаются, тут два смысла жизни не соотносятся.
К самоубийству Треплева причастны многие, кто отказал ему в праве быть первым. Эти многие все в конце концов и попали в уготованную им «запендю». Пережив трагедию разлуки с Тригориным и все же продолжая отчаянно любить его, Нина обрекла себя на неизбывные внутренние страдания. Тригорин, в свою очередь потеряв Нину и, кажется, Аркадину, вошел в зону непреодолимого одиночества и разочарования в себе: словами «Не помню!» он буквально перечеркнул собственное прошлое. Маша, некогда влюбленная в Костю, но вышедшая замуж за Медведенко и родившая ему ребенка, тоже предельно ограничила себя в дальнейшем нормальном существовании, по сути, совершив духовное самоубийство. Вернувшийся из Италии отдохнувший и посвежевший Дорн не может обрести себя вновь в прежней среде («Сколько у вас перемен, однако!»), и единственный для него выход - покинуть эту среду, вычеркнуть себя из нее, исчезнуть.
Этот «треугольник» (), по-своему спародировавший два других «треугольника» (Нина–Треплев–Тригорин и Аркадина–Нина–Тригорин), развалится вслед за ними. О Сорине и говорить долго не приходится: буквально на наших глазах «человек, который хотел», перестает хотеть, то есть жить, он вот-вот умрет на глазах у окружающих: «Петруша, ты спишь?»
- этот вопрос в любую следующую минуту будет уже не к кому обратить. И, наконец, Аркадина, мать, любовница и актриса, сама себя загнавшая в «мышеловку» - ту же «запендю»: она явно заигралась в этой жизни, теряя сына, а еще и брата, и любовника, и профессию, она с ужасом осознает, что вконец растратила, опустошила себя…
Тихий финал этой пьесы обманчив: комедии конец, да здравствует трагедия!
В чеховской «Чайке» мы имеем дело с комизмом трагедии и с трагедийностью комедии - с тем самым треплевским «ничего», возведенным в какую-то высокую степень.
Семь Чаек в чеховской «Чайке» - как семь цветов радуги или как семь нот. Магическое число «семь» означает полноту, завершенность, целостность, исчерпанность (и вместе с тем неисчерпаемость) того или иного объекта или явления. Вот почему юная и дерзкая треплевская муза взыскует именно Мировой души, взыскует бесконечности влекущей и пугающей материи. Треплев взыскует мира всевышнего, как настоящий, библейский Бог взыскует Человека в каждом, любом из людей. «Послушай,
- возразил Пит, - настоящий Господь взыскует каждого из нас. Библия - не что иное, как описание того, как Бог взыскует человека. Не человек взыскует Господа, а Господь ищет человека!»
Эти слова - из романа американских фантастов Роджера Желязны и Филипа Дика «Господь Гнева», написанного ровно СЕМЬ
десят лет после «Чайки».
Кто знает, не застрелись Константин Треплев на заре своей творческой жизни, из него мог бы вырасти любопытный писатель-фантаст (а мог бы и не вырасти, как добавил бы изысканно-ироничный Дорн), но и в этой его скромной незаконченной («Довольно, занавес!») фэнтэзи-миниатюре о Мировой душе содержится некое предапокалиптическое предупреждение, эхо которого достигнет пределов последней чеховской пьесы в виде «звука лопнувшей струны».
1 Карасев Л. В. Вещество литературы. М., 2001. С. 238–239.
2 Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы: В 2 т. М., 1968. Т. 2. С. 342. 3 Мурьянов М. Ф. О символике чеховской «Чайки» // Чеховиана: Полет «Чайки». М., 2001. С. 218.
4 Бахмутова Н. И. Подводное течение в пьесе Чехова «Чайка» // Вопросы русского языкознания. Саратов, 1961. С. 360.
5 Нелишне вспомнить здесь фундаментальную работу о Чехове Льва Шестова «Творчество из ничего». - Прим. автора.
6 Карасев Л. В. Указ.соч. С. 244–245.
7 Лонгбакка Ральф. «Комедия со смертельным исходом». Заметки о «Чайке» // Чеховиана: Полет «Чайки». С. 332.
8 Там же. С. 334.
9 Кёртис Джеймс М. Эфебы и предшественники в чеховской «Чайке» // Чеховиана: Полет «Чайки». С. 142.
10 Там же.
11 Карасев Л. В. Указ.соч. С. 208.
12 Там же. С. 213.
13 См.: Фадеева Н. И. «Чайка» А. П. Чехова как комедия рока // Чеховские чтения в Твери. Тверь, 2000. С.129–133.
14 Ищук-Фадеева Н. И. «Чайка» А. П. Чехова: миф, обряд, жанр // Чеховиана: Полет «Чайки». М., 2001. С. 221.
15 Там же. С. 229.