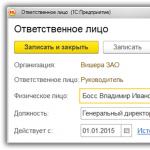Многие родители очень серьёзно и трепетно относятся к выбору детских книг. Издания для детей должны пробуждать самые тёплые чувства в нежных детских душах. Поэтому свой выбор лучше всего остановить на небольших рассказах о природе, её величии и красоте. Настоящим натуралистом, знатоком болот и леса, великолепным наблюдателем живой жизни природы является известный писатель Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 1954). Его рассказы, даже самые небольшие, просты и понятны. Мастерство автора, его манера передать всю непревзойдённость окружающей природы восхищают! Он описывает шум ветра, запахи леса, повадки животных и их поведение, шелест листьев с такой точностью и достоверностью, что сам при прочтении невольно попадаешь в эту среду, переживая всё вместе с писателем. |
Однажды я проходил по лесу целый день и под вечер вернулся домой с богатой добычей. Снял я с плеч тяжелую сумку и стал свое добро выкладывать на стол. Читать...
В одном болоте на кочке под ивой вывелись дикие кряковые утята. Вскоре после этого мать повела их к озеру по коровьей тропе. Я заметил их издали, спрятался за дерево, и утята подошли к самым моим ногам. Читать...
Маленькая дикая уточка чирок-свистунок решилась наконец-то перевести своих утят из леса, в обход деревни, в озеро на свободу. Читать...
Мы бродили весной в лесу и наблюдали жизнь дупляных птиц: дятлов, сов. Вдруг в той стороне, где у нас раньше было намечено интересное дерево, мы услышали звук пилы. Читать...
Раз я шел по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. Он тоже заметил меня, свернулся и затукал: тук-тук-тук. Очень похоже было, как если бы вдали шел автомобиль. Читать...
У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава. Бывало, идем куда-нибудь на свой промысел, он - впереди, я - в пяту. Читать...
Раз было у нас - поймали мы молодого журавля и дали ему лягушку. Он ее проглотил. Дали другую - проглотил. Третью, четвертую, пятую, а больше тогда лягушек у нас под рукой не было. Читать...
Расскажу случай, который был со мной в голодном году. Повадился ко мне на подоконник летать желторотый молодой грачонок. Видно, сирота был. Читать...
Ярик очень подружился с молодым Рябчиком и целый день с ним играл. Так, в игре, он провел неделю, а потом я переехал с ним из этого города в пустынный домик в лесу, в шести верстах от Рябчика. Не успел я устроиться и как следует осмотреться на новом месте, как вдруг у меня пропадает Ярик. Читать...
Мой легавый щенок называется Ромул, но я больше зову его Ромой или просто Ромкой, а изредка величаю его Романом Василичем. Читать...
Это известно всем охотникам, как трудно выучить собаку не гоняться за зверями, кошками и зайцами, а разыскивать только птицу. Читать...
Собака, все равно как и лисица и кошка, подбирается к добыче. И вдруг замрет. Это у охотников называется стойкой. Читать...
Три года тому назад был я в Завидове, хозяйстве Военно-охотничьего общества. Егерь Николай Камолов предложил мне посмотреть у своего племянника в лесной сторожке его годовую сучку, пойнтера Ладу. Читать...
Можно легко понять, для чего у пятнистого оленя на шкуре его везде рассыпаны частые белые пятнышки. Читать...
Слышал я в Сибири, около озера Байкал, от одного гражданина про медведя и, признаюсь, не поверил. Но он меня уверял, что об этом случае в старое время даже в сибирском журнале было напечатано под заглавием: «Человек с медведем против волков».
Занятна охота на лисиц с флагами! Обойдут лисицу, узнают ее лежку и по кустам на версту, на две вокруг спящей развесят веревку с кумачовыми флагами. Лисица очень боится цветных флагов и запаха кумача, спугнутая, ищет выхода из страшного круга. Читать...
Мне попала соринка в глаз. Пока я ее вынимал, в другой глаз еще попала соринка. Читать...
У рябчика в снегу два спасения: первое - это под снегом тепло ночевать, а второе - снег тащит с собой на землю с деревьев разные семечки на пищу рябчику. Под снегом рябчик ищет семечки, делает там ходы и окошечки вверх для воздуха. Читать...
Сегодня, разглядывая на снегу следы зверушек и птиц, вот что я по этим следам прочитал: белка пробилась сквозь снег в мох, достала там с осени спрятанные два ореха, тут же их съела - я скорлупки нашел. Читать...
В полднях от горячих лучей солнца стал плавиться снег. Пройдет два дня, много три, и весна загудит. В полднях солнце так распаривает, что весь снег вокруг нашего домика на колесах покрывается какой-то черной пылью. Читать...
Рассказы и повести Михаила Пришвина предназначены для читателей всех возрастов. Огромное количество рассказов можно начинать читать ещё в детском саду. Дети при этом проникаются тайнами природы, воспитывается уважение к ней и её обитателям. Другие произведения изучаются даже в школе. И для взрослых Михаил Михайлович Пришвин оставил своё наследие: его дневники и мемуары отличаются очень подробным повествованием и описанием окружающей обстановки в сложные двадцатые и тридцатые годы. Они интересны и учителям, и краеведам, любителям воспоминаний и историкам, географам и даже охотникам. Небольшие, но очень содержательные рассказы Михаила Пришвина ярко передают нам то, с чем мы так нечасто встречаемся сегодня. Красота и жизнь природы, глухие малознакомые места – всё это сегодня так далеко от пыльных и шумных мегаполисов. Может многие из нас и рады бы тотчас отправиться в небольшое путешествие по лесу, да не получится. Тогда откроем книгу рассказов Пришвина и перенесёмся в далёкие и желанные сердцу места. |
Слайдфильм
Кадр N1
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА.
Создание этого слайдфильма связано с походом в 1994г. по Пришвинским местам детского экологического клуба "Бемби".
Кадр N2
ПОРТРЕТ М.М. ПРИШВИНА.
Более 20-ти лет творчества Михаила Михайловича Пришвина связано с переславским краем. Весной 1925г. Пришвин получает от директора Переславского музея Михаила Ивановича Смирнова приглашение на должность заведующего фенологическими наблюдениями на детской биостанции, которую планировалось создать на горе Гремяч, в бывшей усадьбе Петра I "Ботик". В письме содержалось подробное описание пути: "на лошадях прямо или же кругом, через Москву, по ж/ддо станции Берендеево". Название Берендеево очень понравилось Пришвину, с тех пор он стал называть себя берендеем.
"Большинство моих охотничьих и других рассказов за тридцать лет написано не только по материалам, но там же, на месте, где происходили мои охоты, странствия - в Ярославском крае ".
(Здесь и далее курсивом выделены цитаты из произведений Пришвина, их также можно включать в слайдфильм - Прим. ред.)
Кадр N3
ГОРИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ.
Первоначально Михаил Михайлович вместе с семьей остановился в музее, на территории Горицкого монастыря. Здесь он познакомился с сотрудниками музея(N.B!Слайды хранятся в архиве национального парка "Плещееве озеро". Вы можете пригласить сотрудника парка - методиста по экологическому образованию - со слайдфильмом в Вашу организацию или, используя данный текстовый материал, подготовить свою лекцию. Текст слайдфильма может также служить основой для проведения экскурсии по Пришвинским местам.), много узнал от них об истории города. Этот период пребывания в Переславле писатель отметит в книге "Календарь природы".
"Мы в ограде Горицкого монастыря, большой, способной вместить тысячи людей...С малой колокольни видна вся жизнь за стеной, множество монастырей и церквей древнего города".
Предлагаем Вам методические материалы к теме "Пришвин и Переславский край"
"Двадцать лет тому назад мы жили здесь совсем уединенно, в белом дворце, среди старинных берез, будто бы екатерининского времени". М.Пришвин. Рассказы о прекрасной маме.
Кадр N4
"БЕЛЫЙ ДВОРЕЦ".
Вскоре совет музея постановил предоставить Пришвину квартиру из 4-х комнат в здании "Белого дворца" в местечке Ботик, и Пришвины переехали на гору Гремяч.
"Двадцать лет тому назад мы жили здесь совсем уединенно, в белом дворце, среди старинных берез, будто бы екатерининского времени". М.Пришвин. Рассказы о прекрасной маме.
Кадр N5
ЮЖНЫЕ ОКНА "БЕЛОГО ДВОРЦА".
Здесь Михаил Михайлович прожил почти год с ранней весны до поздней осени 1925г. Каждый день он ходил по окрестностям Переславля, наблюдал за пробуждением озера, леса, знакомился с местными жителями - охотниками, рыбаками, знатоками края. По впечатлениям этого периода была написана книга "Родники Берендея", опубликованная в журнале "Красная новь" (1925г.) с подзаголовком "Заметки фенолога с биостанции Ботик". Позже книга вышла отдельным изданием под заголовком "Календарь природы".
Кадр N6
СЕЛО ВЕСЬКОВО.
Перелистывая страницы "Календаря природы", мы находим знакомые названия и фамилии. Часто упоминается село Веськово, и Пришвин рассказывает о знаменитых в то время "щучьих бойцах" братьях Комиссаровых, о стороже Ботика Иване Акимовиче Думнове и его жене Надежде Павловне.
"Надежда Павловна рассказала мне о Петре, что он был большой любитель воды и раз, увидев издали Плещееве озеро, повернул коня и прямо спелыми полями поскакал к воде. А в деревне Веськово баба жала рожь и у видела, что какой-то верховой топчет, принялась его честить всякими скверными словами. Петру будто бы это очень понравилось, он щедро наградил веськовских мужиков и некоторых даже постоянно oзвал к себе думу думать, с тех пор вот и пошли в селе Думновы, и сторож Иван Акимович тоже Думное, значит, кто-нибудь из его родни непременно с Петром думу думал".
Кадр N7
СЕЛО СОЛОМИДИНО.
Упоминает Пришвин село Соломидино, жившего там старого охотника Михаила Ивановича Минеева, его спутника на охоте. "Полевыми и лесными берендеями" называл Пришвин жителей сел и деревень нашего края.
Кадр N8
ВИД НА ОЗЕРО.
А переславскую землю Пришвин звал "любимым краем".
"Мало найдется под Москвой мест красивее Ботика: с высоты овалом шесть на девять стелется озеро, совершенно прозрачное,с чудеснейшим пляжем. Направо, из дымки, выступает древний город как невидимый град, налево - леса, не дачные, а дикие, с лосями, медведями, и уходят, почти без перерыва, на север ".
Кадр N9
УРЕВ.
Привлекали Пришвина и поездки на лодках по озеру, где случалось увидеть и услышать много необычного.
"При выезде из реки в озеро, в этом Уреве, в лозиновых кустах вдруг рявкнул водяной бык, эта большая серая птица-выпь... Озеро было опять совершенно тихое, и вода чистая, малейший звук на воде был слышен далеко. Было удивительно слышать эти звуки очень отчетливо за две версты, потом за три, и так все время не прекращалось и за семь верст".
Кадр N10
ТРУБЕЖ.
В свои поездки по реке Трубеж Пришвин брал и детей.
"Мне теперь, когда озеро открылось, часто приходится ездить с Ботика по озеру в Трубеж Рыбной слободой в центре города на базар за провизией. Дети гребут, я правлю и думаю о памятниках старины".
Кадр N11
ВЕКСА.
В мае 1925г. Михаил Михайлович в составе научной экспедиции Переславского краеведческого музея совершает увлекательное путешествие по реке Вексе, озеру Сомину, рекам Нерли Волжской и Кубре. Участники экспедиции собрали коллекции насекомых, богатый этнографический материал, открыли стоянки первобытных людей. Путешествие Пришвин описал на страницах "Календаря природы" и сборника миниатюр "Времена года".
"Сразу же, выйдя из озера, Векса делает крутой поворот, потом еще и еще, так что двум едущим по соседним излучинам почти можно бы друг другу руки подать, итак всю реку".
Кадр N12
СОМИНО ОЗЕРО.
"Повиляв по излучинам речки больше часу... мы, наконец, въехали в умирающее озеро Семино, длиной версты в полторы, водой мелкое, всего на половину весла, и страшно глубокое тиной. Веслом местами и не дощупаешься. Если же случится несчастье - лодка затонет, то плыть тут нельзя, затянет - опасное место -утиный рай".
Кадр N13
БОЛОТО.
В конце 20-х - начале 30-х годов в нашей стране начинается строительство фабрик и заводов. В Переславле также строят фабрику кинопленки (в настоящее время завод "ЛИТ"), открываются торфопредприятия. В 1926 году по заданию газеты "Рабочий путь" Пришвин приезжает на торфоразработки и пишет серию очерков под общим названием "Торф". Тема торфяных болот настолько увлекает писателя, что в 1933г. в "Литературной газете" он публикует краеведческий рассказ "Мох", написанный на материале переславских деревень Ведомша и Шепелеве.
В бассейне одного из истоков Киши – реки Северная Ассара (второе название – р. Пришвина) – находится несколько небольших озер, из которых самое крупное носит имя М. М. Пришвина и располагается под вершиной с таким же именем.
Названием и гора, и озеро обязаны Ю.К. Ефремову в связи с любопытной историей, приключившейся с ним и его спутниками в этих местах. Неизвестный зверь, рыком напомнивший им барса – кавказского леопарда, тогда еще не истребленного окончательно на Кавказе, не давал путешественнику уснуть, и скоротать время помогла книга Пришвина.
«Друзья спят. Таинственный ночной лес. Черный мир и в центре его этот единственный огонек. Где-то бродит или притаился в засаде неведомый облаявший нас зверь. Экономно подбрасываю в костер сушняк, его должно хватить до рассвета. Решаю на досуге перезарядить фотокассеты и лезу в карман рюкзака. Что это? Книжка. Фу, как нелепо! Идем в такой трудный поход и не разгрузили рюкзак от лишней тяжести – тащим с собою целую книгу…
Это оказался Пришвин – «Жень-шень» и еще несколько рассказов — чтение для такой обстановки вполне подходящее. Справившись с кассетой и поддав огонька, погружаюсь в описание дальневосточного леса, его зверей и ручьев. Как кстати, вот место, где рассказывается о барсе, о том, что этот зверь обманывает охотника и сам следует по его стопам. Не окажемся ли и мы назавтра в таком положении, что обрычавший нас барс пустится нас же сопровождать?»
Ю. К. Ефремов, «Тропами горного Черноморья»
Другое название озера Пришвина – Киша. Оно находится на высоте 2309,8 м над уровнем моря, имеет овальную форму и размеры приблизительно 70 на 60 метров. Глубина озера предположительно достигает 4-6 метров. Озеро относится к типу моренно-запрудных и окружено со всех сторон невысокими моренным холмами. Поверхностного стока нет, вода вытекает из озера по подземным каналам.
В непосредственной близости от озера в соседних карах залегают еще три водоема незначительного размера. В расположенном немного выше каре находится полностью деградировавшее (заросшее) озеро, которое в период его «молодости» было больше по размеру, чем озеро Пришвина. Причины, по которым оно перестало существовать раньше, чем остальные водоемы поблизости, пока неизвестны.
Озеро Пришвина очень живописно. В ясную погоду в его водном зеркале красиво отражаются пик Пришвина и зубчатый гребень хребта Ассара.
В расположенном немного выше каре находится деградировавшее (заросшее) озеро, которое в период его «молодости» было больше по размеру, чем озеро Пришвина. Причины, по которым оно перестало существовать раньше, чем остальные водоемы поблизости, пока неизвестны.
Озеро Пришвина очень живописно. В ясную погоду в его водном зеркале красиво отражаются пик Пришвина и зубчатый гребень хребта Ассара. В отношении топонима Ассара существует предположение, что название произведено от абхазского «ассара» – означающего «мелководье, мелкота, мелкоречье». Это соответствует реальности. Множество ручьев, стекающих с массива, мелководны, да и озера, расположенные недалеко на северо-запад от вершины тоже не глубокие. Также в осетинском языке существует слово «ассара» , означающее буквально «порог».
Озеро Пришвина Нижнее
Озеро находится на высоте 2250 м. Это небольшой водоем овальной формы с размерами 45 метров в длину и 40 метров в ширину. Озеро мелководное, максимальная глубина едва достигает 1 м. Образовалось озеро на месте растаявшего снежника, остатки которого на западном берегу подступают вплотную к водной поверхности (на топографической карте на месте озера обозначен только снежник). Берега у озера пологие и каменистые.
Озеро Пришвина Среднее
Это небольшое озеро вытянутой формы занимает верхний кар троговой долины Северной Ассары. Водоем расположен на высоте 2398,9 метров вблизи глубокой седловины в гребне Главного Водораздельного хребта. Генетический тип озера – каровое. Озеро мелководно, глубина составляет не более 1 метра, берега каменистые. В ясную погоду в водной глади озера отражается громада Чугуша с его массивными ледниками. Ниже озера Среднего находится еще одно озерцо, которое относится к так называемым эфемерным озерам и существует очень короткий период в году, во время активного летнего таяния снега. Размеры его не значительны.
Озеро Пришвина Верхнее
Озеро Пришвина Верхнее расположено выше озера Среднего на пологой, широкой перемычке, соединяющей пик Пришвина с Главным Кавказским хребтом. Озеро лежит на высоте 2485 метров над уровнем моря. Площадь водной глади составляет около 800 кв. м. Котловина озера имеет правильную круглую форму.
Озеро Пришвина Заболоченное
Озеро Пришвина Заболоченное расположено в среднем течении р. Северная Ассара (Пришвина) на пологом альпийском лугу у границы леса. Озеро лежит на высоте 1952 метра над уровнем моря. Площадь водной глади (с учетом заросших рдестом участков) составляет около 900 кв. м. Котловина озера имеет сложную форму и ранее представляла неправильный пятиугольник.
Михаил Михайлович Пришвин (1873 — 1954) происходил из купеческой семьи. Он родился 23 января (4 февраля) 1873 года в Хрущёво-Лёвшино Елецкого уезда Орловской губернии (в настоящее время — Елецкий район Липецкой области). Дед будущего писателя, Дмитрий Иванович Пришвин, был преуспевающим елецким купцом. После семейного раздела отец писателя, Михаил Дмитриевич Пришвин, получил имение Констандылово и большую сумму денег, но вскоре разорился и умер, разбитый параличом от потрясения.
Михаил Михайлович Пришвин (1873 — 1954)
Мать будущего писателя, Мария Ивановна, происходила из старообрядческого рода Игнатовых. Оставшись после смерти мужа с пятью детьми на руках и дважды заложенным имением, она сумела поправить дела и дала детям хорошее образование. М. М. Пришвин учился в Елецкой классической гимназии, правда не очень успешно, и заканчивать учебу ему пришлось в Александровском реальном училище, в Тюмени, куда он переехал к дяде И. И. Игнатову. Затем последовали учеба в Рижском политехникуме, участие в студенческом марксистском кружке и арест. После заключения будущий писатель уехал за границу, учился в Лейпцигском университете. Получив диплом инженера-землеустроителя, М. М. Пришвин вернулся на родину, служил агрономом и даже написал несколько книг и статей по агрономии.
Увлекшись фольклором и этнографией, М. М. Пришвин оставил службу и отправился путешествовать по русскому Северу. За написанную в 1907 году книгу «В краю непуганых птиц » (Очерки Выговского края) был награжден серебряной медалью Русского географического общества. Очевидно, интерес к своим старообрядческим корням стал причиной и другого путешествия писателя — в Заволжье. Написанная после этого книга «У стен града невидимого » была напечатана в 1909 году в типолитографии товарищества И. Н. Кушнерева. Предлагаем нашим читателям ознакомиться с этой малоизвестной повестью.
Глава I
Черный сад
Весна. Новая жизнь на истлевших листьях и навозе. Чего же больше? Что откровеннее?
Хорошая грязь, черноземная. Земля оттаяла под снегом. Из каждой проталины валит пар. Зем-ля дышит. Дон пошел.
Я думаю о том неизвестном мне заволжском крае, куда мне предстоит ехать летом. Это реше-но, я туда еду. Пусть все там изучено, пусть все известно, но я-то почти ничего не знаю. И меня почти никто не знает на свете. Я оторву кусочек большого таинственного мира и расскажу другим людям по-своему.
Последняя причина моего путешествия в страну раскольников и сектантов — слышанные мною диспуты на религиозно-философских собраниях в Петербурге. Я там встретил несколько искренних и взволнованных людей. И во мне что-то отозвалось, и мне захотелось также по-своему оглянуться по сторонам. Что скажут о всем этом наши старые лесные мудрецы? Есть вечные вопросы, которые не очень зависят от образования и внешних различий между людьми. Что останется от всего слышанного мной, если я проверю его в беседе с мудрыми лесными старцами? Я люблю лес, люблю северную природу; пусть она заговорит для меня новым голосом. Июнь — более свободный месяц для крестьян — я решил посвятить своему путешествию, а весну мне нужно было провести на родине, в Орловской губернии, в маленьком имении.
Весна. Июнь далеко. Но как только я въехал в родные места, так и началось это путешествие в невидимый град, — и с этого я начинаю свой рас-сказ.
Хозяйку имения, куда я еду, мы прозвали «маркизой » (), потому что у нее серебряная голова и вообще величественный вид. Усадьба, где она живет, старинная барская, тургеневская. Липы, вишневые сады — все сохранилось, но земли чуть-чуть; за это и за доброту маркизы крестьяне пощадили усадьбу во время разгромов и не со-жгли.

Родная земля… Я хотел бы поцеловать ее… Но у нас в бедной равнине не принято выступать с такими чувствами: полынь и татарник по обеим сторонам дороги, тощий кустарник. Другое дело — радостно оглядеться кругом, вширь, вдаль.
В весеннем мареве дрожат маркизины далекие липы, разъединяются, соединяются, поднимают-ся в воздух. Равнина бескрайная. Журавли летят.
Ближе деревья. Белая ограда — как прежде, каменные столбы — как прежде, большой двор, колодец с кругом, серый деревянный дом, зеле-ная крыша, галки на трубах, кривые сучья лип — все, как прежде.
Балкон забит. Через двойные рамы видна се-ребряная голова, угадываются знакомые глаза поверх очков. Ждет.
— Все по-старому?
— Все, все по-старому.
Но будто темнее в комнате, будто липы бли-же подступили к окнам старого дома.
— Что-то темно…
— Старею. Сад зарастает.
В гостиной, в столовой — везде ночные тени от сада. Липы ближе.
Проходят первые дни.
Весна запоздала. Жаворонки померзли. Со-ловьи запели в голом саду. Этого старожилы не запомнят. Маркиза брюзжит. Обыкновенно она не любит говорить о природе, да и некогда: хлопоты, хлопоты без конца. Но если там, в саду, выйдет какая-нибудь заминка, то сейчас же расклеится. Слыханное ли дело, чтобы соловьи пели в голом саду? Но спросить не с кого, нельзя рассердить-ся, разбраниться, отвести свою душу. И маркиза брюзжит.
А соловьи поют. Деревья черные, как мертвые. На зеленом ковре и на голых кривых ветках дале-ко видны серые, хуже воробьев, птички с буль-кающим горлышком. Когда поет соловей в одетых деревьях, то трепещет зеленое сердце сада и от-кликаются соловьи всех времен, потому что все сады и все соловьи одинаковы. В зеленом саду со-ловью все помогает. Но тут, на голых ветках, он один, поет сам по себе. Подойдешь почти к само-му — не слышит.
Откуда это пришло? В саду маркизы, мне ка-жется, соловьи поют о том, что все люди прекрасны, невинны, но кто-то один за всех совер-шил тяжкий грех.
Дни идут. Сад одевается. Фиалки, черемуха, зеленая пыль в воздухе и висячие мостики от дерева к дереву. Но не могу я забыть соловья в го-лом саду, и все кажется, что в саду маркизы скрыто не простое и не зеленое сердце.
Я не могу отвязаться от мысли, что соловей поет о грехопадении. Тоска. Тесно.
Весна не ждет, проходит. Хоть что-нибудь удержать для себя!

У меня нет Росинанта. Все маркизины лошади, с клочьями шерсти, худые, двоят землю под кар-тофель. Иду пешком. Просторно. Далеко впереди блестит крест. Плавает коршун.
Простор и ширь. Не нужно только смотреть себе под ноги, потому что тогда все пропадает. Тут что ни шаг, то стенка сухой полыни, отделя-ющей одну жизнь от другой. Вся эта земля изрезана на мелкие полоски, тут борьба за сажень. Людей не видно, оттого что они собрались в большие села. Тут теснее, чем у маркизы. Но я не смотрю себе под ноги.
Людей поскорее!
И вот на зеленом лугу показались бородатые люди. Лежат на овечьих шкурах, пасут табун лошадей. Луг еще не выгорел от солнца, покрыт пе-стрыми цветами. Люди на нем — будто боги у Го-мера.
Славные ленивые боги! Иду к ним с раскрытой душой. И луг, и старое жнивье, и нечесаные бо-роды, и десятки устремленных на меня глаз, и на-сторожившийся табун — все с детства знакомо. Лучше всех перепелиный охотник (). Много вечер-них и утренних зорь мы провели с ним в тихом ожидании крика птиц у края полей возле сети. Дома он бог, окруженный дикими птицами, кото-рых сам к себе приучает: перепелами, куропатка-ми, соловьями. В полях он бог, внимающий всему одинаково: и травам, и птицам, и погоде. Везде он со своими пустяками, везде со своими рассказа-ми о леших — и везде он бог.
Белый дед в шляпе колпаком, мудрец, ходок, с большою кривою палкой, впереди всей толпы перед балконом маркизы — все такой же. Архип, Семен, Илья, Иван — для всех одинаковые, но для меня очень разные: как же, один Архип, а другой не Архип, а Семен с неширокой бородой, не лопатой, а клином, третий и вовсе не такой, он Илья; для всех одинаковые мужики, а для меня веселые, угрюмые, строгие и легкомыслен-ные, разные, всякие.
Мне расстилают овечью шкуру. Товарищи дет-ства узнают, вспоминают, как вместе грабили яблоки в саду маркизы, вместе погоняли лошадей на молотилке, карасей удили.
Через мозолистую стену годов открывается окно в страну обетованную. Бегают там, кружатся светлые боги зеленые.
Но там же были и черные боги. За оградой, на кладбище, есть церковь, и в ней их много. Мы раз хотели пробраться туда и ударить в набат. Стали подниматься по ступенькам на колокольню. А на лестнице была тяжелая железная дверь. Что там за ней? Открыли мы… Темно… Какие-то ризы, иконы. Взяли одну — и на свет. Просто черная доска. Стали протирать пыль. И вдруг показались глаза… Да какие…
По могилам за ограду, скорей, скорее в сад… Остановились было, а тут, должно быть, еж под яблоней фыркнул. Бежим опять, а за нами-то икона черная, безликая, с глазами.

Кружатся весенние клубы света, рассыпаются искрами. Скатываются по склонам зеленые шары вниз, к потоку. Как след остаются от них по лугу большие, как солнце, цветы. А на краю горизонта, за старым прошлогодним жнивьем, глядит сюда черный безликий бог, с глазами.
— Ну, как же вы теперь живете?
— Плохо…
Жалобы, жалобы, жалобы…
— А раньше, помните?
— Как же.
— Раньше по-божьему жили, — говорит за всех белый дед, ходок.
— Так почему же теперь-то? Кто виноват? Кто согрешил?
— Господа обидели!
— Правительство.
— Японец навалился!
— Врешь, — сказал белый дед. — Врешь, Бога забыли.
Вдруг перепелиный охотник вскочил и стал быстро говорить. Он никогда раньше не говорил ни о чем, кроме птиц. А теперь говорит, что боль-ше терпеть уж нельзя:
— Во-о где! — показал он на шею. — Нельзя, потому что ребятишки.
— Терпи! — говорит дед.
— Нельзя, ребятишки!
Мне показалось, будто бессловесный добрый зверь вдруг по-человечески два-три слова провыл. И всем, должно быть, так показалось. Помолчали.
— Кроволитие будет! — шепотом сказал кто-то.
— И такое кроволитие, такое кроволитие, ка-кого свет не видел.
Тут к нам сбежались чумазые, лохматые дети… «Да неужели же и мы такие были? — при-ходит мне в голову. — Не может быть». Хочется думать, что мы были красивые, свободные, не такие. Теперь не так, как тогда.
— Ну, так кто же вывел человека из рая?
— Змея вывела, — ответили чумазые дети.
— Не змея, а диавол во образе змия, — поправил их белый дед.
Земля готова, хорошая, черная. Картошку са-жать!
Маркиза надевает валенки, полушубок на козь-ем меху, закутывается дырявым вязаным платком, спускается в подвал. Там бабы режут попо-лам картошку для посадки. Маркиза сама наблю-дает за работой, тоже чистит картошку вместе с бабами целые дни. У нее с этими бабами много об-щего, хватает разговоров с раннего утра и до по-зднего вечера.
Я люблю иногда спуститься в эту гостиную в подвале, прислушаться к говору. Мне тогда кажется, что это куры собрались возле картофель-ных куч. Маркиза тоже огромная курица. Квохчут и квохчут.
Раз прихожу, и вот раскудахтались:
— Матрену подковали!
— Как подковали?
— Лошадь чужая, сердитая повадилась бегать на «улицу» народ «пужать». Илья говорит кузнецу: «Лошадь ли то бегает? Не обернулся ли кто?» — «Очень просто, что обернулся», — сказал кузнец, поймал вечером лошадь и подковал. А вскорости Матрена в больницу пришла: выньте, просит, из ноги щепку. Вынули, а ин не щепка, а конский гвоздь. Вот и узнали, кто лошадью на улицу бегает.
Дня два говорили про Матрену, потом стали толковать о «попах»: квох, квох, квох. Попы! Новые попы оказались в деревне: икон не почитают, мощам не поклоняются, в церковь не ходят.
— О, Боже мой, Боже мой!
— Бродили где-то крещеные и веру потеряли. Стали книгу читать. Он их и завел.
— Шутяка. Он заведет!
Теперь в церковь не ходят. Попу отказали. Божию матушку не приняли.
— Где они живут, кто они такие, я к ним пойду.
— Не ходи, не ходи, — закудахтали все, — они тебя в свою веру перезовут.
Но я иду в Алексеевку. Я хочу видеть сектан-тов. Здесь никогда не было сектантов, на этой моей родной земле. Говорят, они здешние: про-стые мужики, ходили на заработки и вернулись сектантами. Какие они?
В Алексеевке перед избою сектантов толпятся бабы, слушают пение перед открытым окном. Болтают:
— Возле их избы что-й-то жутко.
— Из себя какие страшные стали.
— И отчего-й-то в их избе голова кружится.
— А поют что…
Поют знакомое из детства, холодное: «О ты, в пространстве бесконечном». Да это же Бог. Державинский Бог! «Я царь, я раб, я червь». Ода Дер-жавина, распеваемая с религиозным благоговени-ем нашими мужиками. Что это значит? Вхожу.
Это не те, знакомые мне мужики. Это не обыкновенная изба с земляным полом и соломой, с курами, с телком и поросенком. Тут чисто, светло. Занавески, белые стены. Много всего такого. Но чего-то главного нет. Чего это? Да, икон. И это самое главное. Оттого, что нет икон, все не так. В деревянной иконе таилась какая-то чудодей-ственная сила влияния на мир мертвых вещей. Сектанты наши же мужики, но в них теперь буд-то вставлены железные прутья. В глазах неустан-но мелькают крылышки мельницы, перерабаты-вающей Слово Божье. И тут же возле сидит обыкновенный козлоногий мужик, думает: не под-давайся, брат, он заведет.
— Так вот вы как живете!
— Живем по Слову Божию, как Христос учил, как апостолы.
Вместо иконы в углу лежит на столе Библия и еще раскрытая книга «Гусли», откуда и поют сек-танты державинскую оду.
— Садитесь.
Входит лавочник с красным кривым носом.
— Пришел, — говорит, — полюбопытствовать. Бога потеряли и народ смущают, а ответа им на-стоящего дать никто не может.
— Мы веруем в Бога, мы христиане.
— Какая ваша вера. Детей не крестите, икон не почитаете, мощей не признаете. А наша-то вера самая правильная, по нашей вере святые угодники спасались. Эх вы…
— Никто, кроме Бога, не может узнать, кто святой, кто грешный, — отвечает один сектант.
— Нельзя от себя, — поправляет другой, — по-читайте из Библии.
Наш стол вроде кафедры. Проповедник в ши-той рубашке читает текст за текстом.
— Да, да… вот еще…
— А ты от себя, — сердится лавочник.
— Прочтите им, отчего нельзя от себя.
И опять тексты. Старая черная икона сошла со стола, превратилась в Библию и заговорила, и за-говорила. Непрерывно мелькают частенькие кры-лышки мельницы в глазах сектанта, и сыплется, сыплется Слово Божье…
— Будет! Довольно! — кричит лавочник. — Вы же не креститесь…
— Христос крестился в тридцать лет.
— А как же до нас крестились? Мы от свя-щенника, священник от архиерея. А наверху помазанник.
— Отдай Богово — Богови, кесарево — кесареви.
— Помазанник. Слышь! — и вышел как победитель.
Помолчали.
Мужик, обыкновенный серый, спросил сектан-тов:
— Да ведь Бог же изобрел человека?
— Бог, — ответили ему.
— Бог, — опять сказал мужик, — а как-то чуд-но: помрем.
— Ваша радость на земле. Помрете, как жи-вотные.
— Ка-а-к животные! — согласился мужик.
Опять помолчали.
— А что, Егор Иванович, — снова спросил лавочник, — пожалуй, там ничего нету?..
— Господь сказал: позову только избранных, а тех в геенну огненную.
«Да это же не Христос, — думаю я. — Христос милостивый, ясный без книг…». Я рассказываю сектантам о том Христе, про которого, помню, давно, давно слышал в детстве под стулом. Лампада горела. Женщина в черном платье стала рассказывать: в эту ночь светлый мальчик родит-ся и звезда загорится и поведет к нему людей. Рас-сказываю по-своему, что знаю.

— Как смело! — говорят жены сектантов.
— Христос не карает, а спасает.
— Вот поди ты! — изумляются женщины. — Одна и та же книга, а как разно ее понимают.

«Что это такое? — думаю я, выходя от сектан-тов. — Мужики обыкновенные не могут жить на своей земле, им мало, они протестуют. Этим до-вольно. На том же клочке живут хорошо. У тех жизнь на земле, ребятишки. У этих бессмертие и какой-то займ у неба для земли и смирение». Мой разум на их стороне. Сердцем я с козлоногими (). Вспоминаю их, бородатых, на зеленом лугу. Вспо-минаю сектанта с Библией и повторяю в памяти бабьи слова: Библия — страшная книга, кто ста-нет читать ее, проклянет небо и землю.
Возвращаюсь в сад маркизы. Светлые березки встречают меня. Не простые… Будто видел их где-то в другой стране. И соловей поет издалека. Знакомо и забыто… Черные птицы вылетают из Дупл. Спотыкаюсь о корень огромного дерева. Одно мгновение — вспомню и назову что-то.
Вечереет. Вокруг старых лип внизу вырастают темные цветы. Из-под слоя полуистлевших листь-ев показывается черная спина.
Соловей поет, что люди невинны.
Глава II
Година Варнавы
«Сама пойдет, сама пойдет!..» И идут тюки, огромные, сами идут на тоненьких ножках к бар-же. Возвращаются люди, и опять их грузят, и опять «Дубинушка»… Плоты, буксиры… Синеют леса. Волга. Вторая моя родина.
Сижу на высоком берегу в ожидании парохода. Вспоминаю полузабытый роман о заволжских ле-сах (). Помню, купец, Потап Максимыч, похожий на древнего русского князя, управляет лесными людьми, стелет им столы в торжественные дни и даже пляшет вместе с подданными, когда подвы-пьет. Край нетронутый. Люди делают деревянные ложки, продают их, пьют, поют и пляшут. Кондо-вая Русь! А в лесу живет колдунья в черном кло-буке — Манефа. У нее в скиту прекрасные де-вушки-белицы, хотят выйти замуж за Ивана-ца-ревича. Но колдунья Манефа дает им четки и заставляет молиться. В Иване-царевиче, твердит она им, грех. Девушки «убегом» к Ивану-цареви-чу… И вот тут-то непонятное и странное: в Ива-не-царевиче какой-то обман. Белицы возвраща-ются к Манефе и сами становятся колдуньями. И так скит все растет и растет.
Недалеко от скита есть Светлое озеро. В глубо-кую старину белицы и Иван-царевич праздновали на берегах его весну, поклонялись богу Яриле и жгли Кострому. Но колдунья Манефа устроила го-род невидимый, поселила там черных праведни-ков.
Невидимый город как-то называется, как — не могу вспомнить. Но мне необходимо вспомнить. И чем старательнее я вспоминаю, тем глубже прячется название невидимого города.
Чтобы отвлечь себя от навязчивой мысли, я начинаю кормить чаек.
Птицы давно к этому приучены. Поднимаются снизу ко мне. Чуть шелестят крыльями, малень-кие, сахарные, с шоколадными головками. Под-хватывают хлеб, ничуть не изменяя полета. И оттого кажется, что надводная ширь вся хрусталь-ная. Хочется в ней остаться навсегда.
Забылся… Но хозяин этого маленького кафе над Волгой, чтобы угодить мне, завел граммофон. Под звуки вальса закружились в высоте два кор-шуна.
— Тут есть где-то, — спрашиваю я хозяина, — город невидимый?
— У Светлого озера.
— А как он называется?
— Как-то называется… Сейчас…
Хозяин задумался. Сахарные чайки впаялись в стеклянную ширь. Коршуны остановились над си-ними лесами. Все вспоминают: как называется го-род невидимый?

Так часто бывает со мной в пути. А все-таки я никогда не беру с собой справочных книг, потому что весь смысл таких путешествий — в особенном зрении. Ехать без книг, без определенного плана, отдаться хоть на месяц тем неопределенным голо-сам, которые куда-то зовут… Куда — их дело…
Единственная книга, которая со мной, — это Евангелие с Апокалипсисом. И то я купил это тут же на Волге на пароходе у разносчика. Меня ис-пугали предстоящие собеседования со старообрядцами и мое слабое вооружение. Мы поехали на пароходе вниз по Волге; я принялся читать.
Все непонятно. Пробую останавливаться, ис-толковать себе смысл…
Тайна семи звезд… Жена, облеченная в солн-це… Конь бледный и на нем всадник, имя которому Смерть..(). И еще много такого загадочного, волнующего. И вот второе небо…
Прочел. И остался таким одиноким на парохо-де… Река Стеньки Разина и этот домашний пароход. Жарко. Каюты накалились. Хочется попросить капитана окунуть пароход. Пассажиры бродят, слоняются. Только толстая матушка не устает вя-зать что-то. На носу развлекаются цыганами, бро-сают им мелочь, дети дерутся из-за нее. Народ-ный певец поет что-то дурное о попах. Ему тоже бросают мелочь.
Всем жарко и скучно. Только под вечер захо-лодело, и барышня в зеленом платье и красных чулках сказала офицеру:
— Нет лучше Волги!
— Море лучше! — ответил он ей и заказал стерляжью уху. Это было сигналом. Певица в длинном шарфе заказала суп из раковых шеек. Старый генерал что-то зашептал о слепой кишке. Вечерело все больше и больше. На Волге за-жглись большие немигающие домашние звезды. Наконец, после ужина, певица ударила по клавишам, запела, и в небе загорелась первая насто-ящая молодая звезда. Спустилась золотистая сеть, закачалась на голубой и пурпуровой зыби. Вышел огромный месяц.

Ночь наступает. Свежо… Расходятся по каю-там. Только там, где месяц, сидит генерал — темный, как луговая копна. Цыгане давно уже усну-ли: мужчины, женщины, дети, откровенно, у са-мой воды. Для них и журчит она у руля, искрится; для них этот месяц, большой, красный.
Я хожу вокруг рубки, между бортом и каюта-ми. Окна еще освещены, все видно внутри плавучих комнат. Мне кажется, что это не Волга и не каюты, а ряд по-праздничному убранных квартир в большом городе, и я еду наверху конки один, вглядываюсь с завистью внутрь каждого дома.
Деревья на берегу становятся черными шапка-ми. Показались таинственные острова. Месяц овладел всем: и спящими цыганами, и спиной генера-ла, и силуэтами гребцов на воде. Огни меркнут, шторы задергиваются. Только одной занавеске помешал букет ирисов. И кажется, что этот букет для меня последняя связь с землей в эту ночь. Еще немного — и все кончится. И жалко чего-то, и страшно.
Есть такая черта в сердце, темная, как закры-тые окна. За ней начинается бледный свет и осо-бая радость и счастье.
Есть такая черта.
Если сделать усилие воли, то можно и живо-му человеку перешагнуть за нее.
Но там нет ирисов. И тот, кто любит их, не станет черту переходить. Не потому, что не может, а потому, что любит.
А там не так любят. Там новое небо и новая земля, потому что прежнее все миновало. Там нет плача, потому что прежнее прошло. И солнца там нет, и времени. Не это ли — то второе небо, о котором я сегодня читал, скиния Бога с челове-ками? (). Вот тут-то, верно, и сойдет сияющий ясписами, сапфирами, халкидонами, аметистами и вириллами град Иерусалим.
Чуть светает. Туманы поднимаются с реки. И так, само собой, без всяких усилий вспоминается, что город невидимый, скрытый у Светлого озера, называется Китеж. Он и есть тот град Иерусалим, который спускается людям за чертою всего земного…
С Волги я не сразу попал на Ветлугу, но пусть будто сразу. После я расскажу, что еще было на Волге.
Она седая — эта река: ели и сосны. Был дождь. Теперь деревья мне кажутся черными. Река хотя и узкая, но у леса как-то свободно, точно стано-вится шире. Хочется сесть на один из этих плотов и плыть с самого верха реки до Волги, варить кашу, удить рыбу и затянуть у костра песню во-всю, чтобы медведи зарычали и волки завыли. Се-дая река.
Люди хорошие, лесные; много белых стариков. Спрашивают, куда я еду. Отвечаю: в Китеж, в го-род невидимый. Никто не удивляется, здесь это понятно…
Под Иванову ночь, говорят мне, туда ехать нужно. А теперь поезжай в Уренские леса за Ветлугу, к староверам. Советуют заехать в город Варнавин. Туда будто бы сходится народ со всего мира, со всей вселенной и ползет вокруг церквей.

— Ободом друг за дружкой, всю ночь, — отве-тили мне.
Седая река. Темные ели. Серое небо… Люди ползут…
Куда я попал? Что это?.. Я непременно хочу это видеть, хочу пережить вместе с этими людь-ми их страх и грех. Люди ползут. Из далекого-да-лекого детства грезятся мне страхи и ужасы; за-бытый мир шевелится во мне. Хочу видеть…
И волшебница, душа моих странствий, согла-силась. Ветлужский пароходик именно в годину жестокого святого () и доставил меня в город Варнавин. Бабушка, старая, сморщенная, проводила меня к церкви Варнавы, к этому темному дере-вянному конусу с крестом.
— Неужели же, — спрашиваю, — и в этот дождь и грязь поползут?
— Поползут, родимый: кто по обещанию, так ни на что не посмотрит.
Страшный обрыв возле церкви. Ветлуга сцепи-лась с другою рекой и расходится в дымчатую си-неву лесов и болот. Обрыв в двух шагах. Два-три аршина, две-три весны — и церковь Варнавы упа-дет в Ветлугу.
— Ничего, — говорит старушка, — Варнава оста-новит, он славный.
«Укрепить бы», — думаю я…
— А свалится, — утешает бабушка, — так тому и быть. Батюшка, слышно, ушел. Как ушел, так и свалится.
И правда: если святого там нет, то зачем укреплять обрыв, а если он там, то удержит. Так живет и верит вся Россия и не укрепляет обрыв. А святые уходят, овраги растут, и скучно укреп-лять их, не из-за чего. Варнава ушел… Я слышал об этом и раньше от многих благочестивых людей. Ушел из-за греха, за то, что щепотью молятся и забыли старую настоящую веру. Вся Ветлуга шеп-чет: «Варнава ушел».
— А славный был, — рассказывает бабушка. — Как брал Казань царь Иван, так и позвал его к себе. Угодник и учит царя: «Так сделай да так». Рассердился Грозный, что угодник указывает, и прогнал. А святой бросил ризку на воду и поплыл к себе в лес на Ветлугу. Испугался царь: «Вернись, вернись, Варнаша, — все сделаю, как ты велишь». Все сделал с точностью и взял Казань. Вот какой славный святой.
Падают последние северные деревянные цер-кви. А в каменных угодники не живут…
— Наверно ушел?
— Бог знает. Под спудом святой. Хотел посмот-реть один поп, да ослеп. И другой ослеп. Слепнут попы.
Темнеет в деревянной церкви. Через решетча-тое окно я еще вижу свет и даже обрывок радуги. Но в церкви темно…
Трепещет огонек над гробницей Варнавы. Бес-прерывной чередой склоняются над ней и озаря-ются красным светом лики паломников. Церковь полна. Люди сидят на полу со своими котомками, дожидаются чтения жития святого. Собрались из-далека, усталые, мокрые; всю ночь до рассвета будут бороться с дремою. Темнеет совсем, ничего не видно, только угадываются темные углы с ко-стлявыми и косматыми призраками. Кто-то со свечой обходит углы, вглядывается, останавли-вается, прислушивается: не храпит ли кто, не овладел ли кем-нибудь диавол.
Кто-то захрапел. Огонек направился туда че-рез котомки и ноги. Старик беспощаден к грешникам: со всего маху ударяет сапогом в грешное тело.
— Батюшки! Матушки!
— Господи, да не яростью твоею обличиши меня, ниже гневом твоим накажешь меня, — шепчут возле.
Огонек блуждает из угла в угол, заглядывает за двери к паперти и останавливается недалеко от гробницы у амвона. Кто-то в черном кафтане, с большой книгой подходит к огню и читает житие.
.jpg)
В огромной книге — все чудеса святого, вся жизнь: как он поселился в лесу, как возил лес на медведе, исцелял слепых, глухих, немых. Чтение на всю ночь. Так когда-то давно-давно по всей древней Руси читали такие жития во всех церквах. Одни творили, другие благочестиво слушали и учились. Так воспитывалась древняя Русь.
.jpg)
Мрак в церкви; в темном углу бородатая ста-руха поднимает костлявую руку с лестовкой () и проповедует. К ней сползаются из других углов. Трепещет огонек над гробницей святого. В темном углу начинается мистерия.
— Настали, братие, последние времена. Уже при двери судия. Стоите на вертячем песку. Во тьме зашаталися! — учит старуха.
— Над горем горе, над бедами беда, — шепчут тени возле бородатой старухи.
— Все знаки, все признаки тут: трусы () и мя-тежи, провалища, волну с моря наводит.
— Все диавол, все диавол кознодействует! — вторят в толпе.
— Небеса и земля, братие, мимо пройдут, а словеса моя не пройдут. И при последних време-нах настанет великая скорбь. Матери испекут дитя свое и съедят.
— Мертвый грех! — шепчут тени.
— Покровом покроет в горах, и выйдут четы-ре крылоптичника и четыре зверя. Один — как медведица.
— Ка-а-ко медведица!
— Другой — как львица.
— Ка-а-к львица!
— А третий — как бордон.
— Ка-а-к бурдон!
— А четвертый — как худоносор. На голове четыре головы и десять рогов, а один-то рог очень прытко врос, но державцов будет. И когда выйдут из моря, пойдут в Рым.
— Адова беда!
— Такая беда, что и сам сатана бы покаялся.
— Одна беда прошла, вот идет беда вторая.
— Он генералом будет в турецкой кампании, — перебивает кто-то бородатую старуху.
— Родится от девки-жидовки, — шепчет дру-гой.
— Родится от седьмой девицы Наталии, во Франции, — со спокойной уверенностью поправляет бородатая. — И сверху будет лиса ясница, а внутри — волк хищный, руки железные и в пер-стнях. И будет милостив. И два пророка ложных, Гог и Магог (), святителев сан примут и мертвых воскрешать будут, вдов и сирот любить будут, не взяточники; что Господь любит, то и они; табаку не курят, вина не пьют, все знают: души и по-мыслы от востока до запада. И на последние дни вытребует царя, обоймет его, и пойдут во святые ворота… И тут ему и конец…
— Кому, кому? — шепчут вокруг меня.
— Кому? — спрашиваю я старуху.
— Царю. Он его хоботом убьет.
— Извините за позволение, хвостом, — почтительно разъясняет мне кто-то.
— Тогда все веры соединятся, и тогда на три дня и на три ночи в церкви запрутся, и будет слы-шен голос с неба: «Подите, возлюбленные, в Кон-стантинополь, в Софийский собор, там мой пер-вый царь, Михаил, воскреснет».
Придут верные в Константинополь и поведут Михаила на царство. Три месяца процарствует в Питенбурге, потом выйдет в поле, рученьки подымет к небеси: «Не могу, — скажет, — с безобразниками царствовать». И тогда присягнут Аввадону () и будет царствовать тысяча двести ше-стьдесят ден. И придет в Питенбург, и сядет на царство, и даст печать с цифрой, шестьсот шесть-десят шесть.
— Вот бы посмотреть теперь на весах, какие то цифры есть.
— Разуметь бы.
— Ангелы возьмут Аввадона под руки и поведут на царство, на край земли, и тут он всякую ересь выблюнет, — всех щепотников и никониан.
И тут небесная сила двигнется. Громов сын ис-пугается.
— Кто этот Громов сын? — спрашиваю я.
Но мне не могут объяснить. Громов сын — и все… Испугается…
И нельзя объяснить. Это не мысли, а падаю-щие тени давно пережитых веков. Эта старинная церковь теперь вся наполнена тенями. Вокруг меня, как у Вия, только тени и призраки. Жутко. Вечно дрожит и колышется пламя свечи от скло-няющихся над гробом старых, уродливых лиц.
— Поползли, поползли!
Волна людская выносит меня на паперть. Там во тьме, под дождем молятся, будто собираются в дальний путь.
— Сейчас поползут, сейчас поползут. Поползли.
Какие-то сгустки тьмы осели на землю, и кланяются, и шевелятся под дождем.
— Держись к стороне, не разбивайся! — неожиданно прорезывает тьму окрик городового.
Слышно, как чавкает слякоть, как булькают капли дождя по лужам, как жидкая грязь заливает следы. Что-то белеет внизу. Приглядываюсь: ребенок привязан к шее ползущей женщины. Ей труднее всех ползти. Бревно на пути. Отвязывает ребенка, кладет за бревно в грязь, а сама пере-ползает и снова подвязывает. У обрыва ползут по двое, осторожно.
Раз оползли. Опять молятся на церковь. Опять собираются.
— Держись к одной!
Исчезают во тьме. Ребенок кричит.
— Бабушка, неужели это Христос?
— Христос, родимый, Иисус Христос. Бог-то Саваоф непростимый. А Христос за нас смерть принял. Лучше Его не найдешь и в Царство не-бесное с ним попадешь. Вот Варвара-мученица сорок мужей имела, а как Истинному припала, Он и простил. А Бог-то непростимый: без Христа нельзя.
Мистерия кончилась плохо. В своей современ-ной одежде на фоне средневековой толпы я пока-зался подозрительным городовому. Паспорт остал-ся в вещах в трактире, и меня повели в участок. Несколько стражников и лиц, похожих на нечи-щеные сапоги, лениво курили, лениво сплевыва-ли, лениво смотрели на меня.
— Привел!
В моих бумагах нашли предписание губернато-ра о покровительстве мне.
Инквизиция была коротенькая. Но много ли нам теперь нужно?
Так кончилась мистерия, и так я начал свои поиски невидимого града.
Продолжение следует.
. Хозяйку имения, куда я еду, мы прозвали «маркизой»… — «Маркизой» иногда называет Пришвин в раннем дневнике (1905-1913) свою мать Марию Ивановну Пришвину (урожд. Игнатова); М. И. была родом из г. Белева, «старообрядческого происхождения, впоследствии православная», — отмечает Пришвин в автобио-графической справке (РГАЛИ, архив М. М. Пришвина).
. Лучше всех перепелиный охотник. — Крестьянин по прозвищу Дедок был другом Пришвина с детских лет. (Ср.: рассказ «Сашок». Пришвин М. М. Собр соч. в 8-ми т.— М.: Худож. лит., 1982. Т. 1. С. 568-572).
. Сердцем я с козлоногими. — Имеются в виду античные образы сатиров, в данном случае противопоставленные умствующим сектантам.
. Вспоминаю полузабытый роман о заволжских лесах. — Имеется в виду роман «В лесах» (1871) П.И. Мельникова-Печерского (1818-1883).
. Тайна семи звезд… Жена, облеченная в солнце…Конь бледный и на нем всадник, имя которому Смерть… — Откр. 1:20. Откр. 13:1. Откр. 6:8.
. …скиния Бога с человеками? — Исх. 25:9. Евр. 9:11— 12, 9:24.
…в годину жестокого святого… — Имеется в виду местный святой Варнава.
. Поднимает костлявую руку с лестовкой… — Лестовка — четки староверов.
. Трусы — землетрясения.
. Гог и Магог — Откр. 15:7.
. Аввадон (Аваддон) — Ап. 10:11.
Это вышло не из страха, что-то ни с чем не сообразное ворвалось в мой великий концерт, и я поспешил уйти из дикого леса, где кто-то безобразно храпит.
Когда я проходил по деревне, то везде храпели люди, животные, все было слышно на улице, на все это я обращал внимание после того лесного храпа. Дома у нас в кладовке диким храпом заливался Сережа, хозяйский сын, в чулане же Домна Ивановна со всей семьей. Но самое странное: я услышал среди храпа крупных животных на дворе тончайший храп еще каких-то существ и открыл ори свете электрического фонарика, что это гуси и куры храпели…
И даже во сне я не избавился от храпа. Мне, как это бывает иногда во сне, вспомнилось такое, что, казалось бы, никогда не вернется на свет. В эту ночь вернулись все мои старые птичьи сны…
И вдруг понял, что ведь это в лесу не кто другой, а глухарь храпел, и непременно же он! Я вскочил, поставил себе самовар, напился чаю, взял ружье и отправился в лес на старое место. К тому же самому дереву я прислонился спиной и замер в ожидании рассвета. Теперь, после кур, гусей, мой слух разбирал отчетливо не только храп сидящего надо мной глухаря, но даже и соседнего.
Когда известная вестница зари пикнула и стало белеть, храп прекратился. Открылось и окошечко в моей осинке, но голова не показывалась. Вставало безоблачное утро, и очень быстро светлело. Соседний глухарь шевельнулся и тем открыл себя: я видел его всего хорошо. Он, проснувшись, голову свою на длинной шее бросил, как кулак, в одну сторону, в другую, потом вдруг раскрыл весь хвост веером, как на току. Я слыхал от людей об осенних токах и подумал, не запоет ли он. Но нет, хвост собрался, опустился, и глухарь очень часто стал доставать листы. В это самое время, вероятно, мой глухарь начал рвать, потому что вдруг я увидел в окошке его голову с бородкой. Он был так отлично убит, что внизу совсем даже и не шевельнулся, только лапами мог впиться крепко в кору осины, – вот и все! А стронутые им листья еще долго слетали. Теперь, раздумывая о храпе, я полагаю, что это дыхание большой птицы, выходящее из-под крыла, треплет звучно каким-нибудь перышком. А впрочем, верно я даже не знаю, спят ли действительно глухари непременно с запрятанной под крылом головой. Я это с домашних птиц беру. Догадок и басен много, а действительная жизнь леса так еще мало понятна.
Умершее озеро
Тихо в золотистых лесах, тепло, как летом, паутина легла на поля, сухая листва громко шумит под ногами, птицы далеко взлетают вне выстрела, русак пустил столб пыли на дороге. Я вышел рано из дому и головную боль свою уходил до того, что лишился способности думать. Мог я только следить за движениями собаки, держать ружье наготове да иногда поглядывать еще на стрелку компаса. Мало-помалу я захожу так далеко, что стрелка компаса смотрит не через мой дом, и так я вступаю в совершенно мне неведомый край. Долго я продирался через густейшую заросль, и вдруг мне открылось в больших дремучих золотых лесах совершенно круглое умершее озеро. Я долго сидел и смотрел в эти закрытые глаза земли.
Вечером почти вдруг перемена погоды: в лесу за стеной будто огромный самовар закипел, это дождь и ветер раздевают деревья. В эту ночь, согласно всем моим приметам и записям, должен лететь гусь.
Первый зазимок
Ночь тихая, лунная, прихватил мороз, и на первом рассвете выпал зазимок. По голым деревьям бегали белки. Вдали как будто токовал тетерев, я уже хотел было его скрадывать, как вдруг разобрал: не тетерев это токовал, а по ветру с далекого шоссе так доносился ко мне тележный кат.
День пестрый, то ярко солнце светит, то снег летит. В десятом часу утра на болотах еще оставался тонкий слой льда, на пнях самые белые скатерти и на белом красные листики осины лежат, как кровавые блюдца. Поднялся гаршнеп в болоте и скрылся в метели.
Гуси пасутся. В полумраке стою неподвижно лицом к вечерней заре. Были слышны крики пролетающих гусей, мелькнула стайка чирков и еще каких-то больших уток. Каждый раз явление птиц так волновало меня, что я бросал свою мысль и потом с трудом опять находил ее. Эта мысль была о том, что вот как отлично это придумано – устроить нам жизнь каждому из нас так, чтобы не очень долго жилось, и нельзя никак успеть все захватить самому, все без остатка, отчего каждому из нас и представляется мир бесконечным в своем разнообразии.
Гуси-лебеди
Ночь была ясная, звездно-лунная. Сильный мороз. Утром все белое. Гуси пасутся на своих местах. Прибавился новый караван, и всего стало летать с озера на поле штук двести. Тетерева до полудня были все на деревьях и бормотали. Потом небо закрылось, стало мозгло и холодно.
После обеда опять явилось солнце, и до вечера было прекрасно. Мы радовались нашим уцелевшим от общего разгрома двум золотым березкам. Ветер был, однако, северный, озеро лежало черное и свирепое. Прилетел целый караван лебедей. Слышал, что лебеди очень долго держатся у нас, и когда уже так замерзнет, что останется только небольшая середка и уже обозы зимней дорогой едут прямой дорогой по льду, слышно бывает ночью во тьме в тишине, как там на середине где-то густо разговаривают, думаешь – люди, а то лебеди на незамерзшей середочке между собой.
Вечером из оврага я подобрался к гусям очень близко и мог бы из дробовика произвести у них настоящий разгром, но, пока лез по круче, приустал, сердце слишком сильно билось, а может быть, просто хотелось поозорничать. Был пень у самого верха оврага, и я сел на него так, что поднять только голову и покажется ржанище с гусями, ближайшее от меня – в десяти шагах. Ружье было приготовлено, мне казалось, что даже при внезапном взлете им без больших потерь нельзя от меня улететь, и я закурил папироску, очень осторожно выпуская дым, рассеивая его ладонью у самых губ. Между тем за этим маленьким польцем была другая балка, и оттуда совершенно так же, как и я, пользуясь сумерками, к гусям подползала лисица. Я не успел ружья поднять, как целая огромная стая гусей снялась и стала вне выстрела. Еще хорошо, что я догадался о лисице и не сразу высунул голову. Она ходила, как собака, по гусиным следам, заметно все ближе и ближе подвигаясь ко мне. Я устроился, утвердил локти, примерился глазом, тихонечко свистнул мышкой – она посмотрела сюда, свистнул другой раз, она пошла на меня…
Тень человека
Утренняя луна. Восток закрыт. Все-таки наконец из-под одеяла показывается полоска зари, а возле луны остаются голубые поляны.
Озеро как будто было покрыто льдинами, так странно и сердито разрушались туманы. Кричали деревенские петухи и лебеди.
Я плохой музыкант, но мне думается, у лебедей верхняя октава журавлиная – тот самый их крик, которым они по утрам на болотах как будто вызывают свет, а нижняя октава гусиная, баском-говорком.
Не знаю, наверно, от луны или от зари на голубых полянках вверху я наконец заметил грачей, и потом скоро оказалось, все небо было ими покрыто – грачами и галками: грачи маневрировали перед отлетом, галки, по своему обыкновению, их провожали. Где бы это узнать, почему галки всегда провожают грачей? Было время, когда я думал, что все на свете известно и только я, горемыка, ничего не знаю, а потом оказалось, что в живой природе ученые часто не знают даже самого простого.
Поняв это, я стал в таких случаях всегда сам что-нибудь сочинять. Так вот о галках думаю, что птичья душа, как волна: в их быту какой-нибудь толчок передается из рода в род, как волна волне передает удар камня, брошенного в воду. Вот, может быть, при первом толчке грачи и галки собирались было вместе лететь, но грачи улетели, а галки раздумали. И так до сих пор из рода в род они повторяют одно и то же: соберутся вместе лететь и вернутся назад, когда проводят грачей.
Но может быть и еще проще: так недавно еще мы узнали, что некоторые из наших ворон являются перелетными. Почему же и некоторые из галок не могут улетать вместе с грачами?
Подул утренний ветер и свалил мою елочку, поставленную среди поля, чтобы можно было из-за нее подползти к гусям. Я пошел ее ставить, но как раз в тот момент, когда я поставил ее, показались гуси. Добросовестно я ползал вокруг елочки, прячась от гусей, но они сделали несколько кругов, елочка все казалась им подозрительной, да так и улетели подальше и расселись возле Дубовиц. Я стал к ним подползать из-за большого куста ивы посредине поля. На жнивье лежал белый мороз, и тень моя на белом выползала раньше меня, долго я не замечал ее, но вдруг в ужасе заметил, что она, огромная, страшная, подбирается к самым гусям. Страшная тень человека на белом морозе дрогнула, начался переполох у гусей, и вдруг все они с криком в двести голосов, из которых каждый был не слабее человеческого «ура!» при атаке, бросились прямо на мой куст. Я успел прыгнуть внутрь куста и в прогалочек навстречу длинным шеям высунуть двойной ствол.