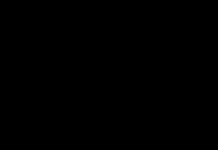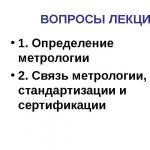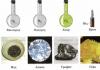На «Красном октябре», поймав момент, блеснул Медведев. Там теперь Октябрик: есть правда в том, что бывший президент явился на одной из бывших фабрик. Сам повод мне казался пошловат: все сдал, что можно, - так чего бы ради? Там делали когда-то шоколад – теперь собрались те, что в шоколаде (кто отбирал героев – не пойму, но это явно был коварный демон), и стали хором объяснять ему, как правильно он делал все, что делал, как твердо гнул он линию свою, сдаваясь в главном, побеждая в малом… А в это время Путин интервью давал в Барвихе трем телеканалам: зачем – не знаю. Видимо, затем, чтоб местной узаконенной малине по-прежнему мерещился тандем, хотя тандема не было в помине.
Сюжет, достойный Агнии Барто, хоть, в сущности, не стоящий полушки. Что он сказал? – а то из вас никто не рассказал бы этого получше! Сигналов новых он не подавал, ничто не предвещало холиваров. Там был из Златоуста сталевар, точнее, златоуст из сталеваров, сияющий, как свежий апельсин, и сообщивший несколько манерно, что летом у него родился сын (стараньями Медведева, наверно). Там был Минаев, рыхлый наш акын, изрекший пару лозунгов протухлых, - он хвалит власти с рвением таким, с каким ругать их принято на кухнях. Весь интернет наизгалялся всласть – на этот подвиг мы всегда готовы. Все повторяли: «Не бросайте власть!». Медведев возмущался: «Что вы, что вы!». О чем писать эпистолу свою – я сам не знал и вглядывался паки, но в это время свежую струю внесла в беседу Тина Канделаки. Сперва она поведала о том, что друг ее, успешный англичанин, себе обрел в России новый дом (должно быть, этот юноша отчаян!): свою судьбину в клочья изодрав, он ринулся сюда, и это здраво. «В одной России есть сегодня драйв! В России невозможно жить без драйва!».
Вот вещь, непостижимая уму, но внятная любому в той клоаке: у нас в стране успех придет к тому, в ком будет драйв, сказала Канделаки. И вот, припомнив свой банальный лайф, в порожнее текущий из пустого, - я начал думать: что такое драйв? Как люди понимают это слово – вот эти все, собравшиеся там с какой-то целью, а не ради кайфа, которые резвы не по летам и веселы вообще неадекватно? В конце концов, английский мне знаком, но, отличаясь от меня-изгоя, они другим владеют языком, и «драйв» там значит что-нибудь другое. Страна полна печалей и злодейств, каких не выжечь никаким глаголом, - так как мне этим драйвом овладеть, чтоб стать таким же свежим и веселым? И что есть драйв? Уменье сочетать утробный юморок с напором лести? Уменье врать? Уменье не читать? Искусство с криком «Марш!» бежать на месте? Отыскивать в безжизненности нерв, швыряя в несогласного каменья, умеет весь медведевский резерв; боюсь, что это все его уменье. Науку эту я не угрызу, до светлых их вершин не доползу я: на выпученном радостью глазу там виден отблеск явного безумья. Он и в глазах Медведева блистал. Прошу не плакать чересчур ранимых, - нам четко явлен был Медведев-style: манера улыбаться на руинах. В конце концов, когда царит развал, чем утешаться Родине, чего там… «Почаще улыбайтесь», - он призвал. Зачем? Чтоб стать готовым идиотом? Но это вправду новая волна: держаться надо весело и серо. Натужным ликованием полна у них теперь любая атмосфера: шахтер, боксер, свинарка и пастух, ведущий, сталевар и их хозяйва – все пялят зенки, все смеются вслух, и этот общий смех – основа драйва. Врут, что у нас возможностей нема – у нас их край буквально непочатый: утратить стыд, шутя сойти с ума, попасть бесплатно в год семидесятый… Воистину, уж если мы хотим тут выжить и попасть при этом в ящик, то лживый жизнерадостный кретин – достойный и внушительный образчик.
А прочие – уже любых кровей, - почувствовав, куда несет стихия, все чаще выбирают drive away.
Точнее даже – drive away from here.
Монолог вымышленного лица.
Кто за Собчак — того я ненавижу. И сам бы я ее не выбирал, поскольку вряд ли сам себя унижу прозванием «системный либерал», — и остальных, кто вслух уже доволен подобной конкуренцией Кремлю, всех встроенных, как Познер или Долин, — я тоже очень сильно не люблю. Я даже не пойму, о чем мы спорим, войдя в такой электоральный цикл: мучительно не то, что это спойлер, позорней сознавать, что это цирк.
Кто за Собчак? Кто сам уже обгрызен, с кем много раз публично подрались, кто на закланье впущен в телевизер и там изображает плюрализм; кто призван объяснять широким массам, что массы сами Путину под стать; кто клоуном нанялся к пупарасам, чтоб пупарасом в клоунах не стать. Ужасно быть сегодня Петербургом, родившим и тирана, и Собчак. На ней уже топтался даже Ургант, который сам из Питера, пошляк.
Кто против — тех я тоже ненавижу. Не знаю, как им всем не надоест — кто, надрываясь, наживая грыжу, изображает искренний протест. Как ненавидят эти маргиналы, кому страна отнюдь не дорога, — всех тех, кто федеральные каналы включает, просто чтобы знать врага! Как ратуют дрожащими губами за «Яблоко», чей лидер несравним с любым другим! Они зовут рабами всех тех, кто дышит воздухом одним с диктатором. Они грехи чужие считают и твердят: «Пробили дно». Они живут обычно не в России, хотя в России тоже их полно. Их роль ничтожна. Их протест — щекотка. Вся их среда — гламурная Москва. Собчак для них — лояльная кокотка, пропутинская шваль из «Дома-2», мне глубоко противно их злорадство, уменье жить безбедно и легко — Собчак хотя бы любит подставляться, а эти безупречны, как Дзядко.
Саму Собчак я тоже ненавижу. Ликует, драму в хохму превратив! Кто любит эту лошадь, эту лыжу?! Ей что дебаты, что корпоратив. От критики она не затоскует, ей по фигу народная молва, она ничем при этом не рискует, — не больше, чем когда-то в «Доме-2».
Ее семья была небезупречна, она же хуже собственной семьи, а крестный попросил ее, конечно, — и будьте-здрасьте, крестный, мы свои.
В тринадцатом, в разгар иных событий, он к ней вражду известную питал, — но нынче помогает нарастить ей серьезный статус, то есть капитал. Коль знаешь — сомневаться некрасиво, как говорил Станислав Ежи Лец; ждать от нее какого-то прорыва способен лишь дурак или подлец. Вот послевкусье путинского яда, нахального, разнузданного зла! На этом фоне даже Хакамада как будто ничего себе была.
Пора признаться, рожу скосоротив: мне надоел посмертный этот бал, я ненавижу всех, кто за и против, а тех, кто воздержался, я вообще*. Все выродилось так на этом свете, что падает последний мой редут, и мне уже неважно, те иль эти потом на место Путина придут. Я думаю, история осудит и тех, и этих, ибо всё фигня, и после никого уже не будет — ни тех, не этих тоже… и меня, заслуженного общего изгоя. Проявится какой-то новый класс, и будет что-нибудь совсем другое, нисколько не похожее на нас. Покуда это будущее — в нетях, за темным горизонтом бытия… Но если ты похеришь тех и этих, то, Господи, готов не быть и я.
Соратник — отвратительное слово. Его теперь везде встречаю я. Оно как будто знак всего плохого: напыщенности, пафоса, вранья. Словечко это в нынешнем формате себя дискредитирует само: соратники — у тех, кто любит рати, а любят их не ратники, а чмо. Подобный сленг употребляют сдуру, чтоб веса аппаратного набрать, лишь те, кто видит жизнь, литературу и русских — как одну большую рать. Такие никогда не понимали, что значит вкус; и перли напролом. Недаром же у Розановой Марьи «Нас рать!» висит над письменным столом.
Союзник — тоже слово не из лучших. Им прикрывают ложь и кумовство. (Есть более приличное — попутчик, — но РАПП скомпрометировал его). Оно гнетет каким-то долгом, грузом, какой-то подневольностью к тому ж: не знаю, что такое — брат по узам. Супружеские узы — тоже чушь. Один российский царь, напрягши мускул, сказал, коль современник нам не врет, что только два союзника у русских, и эти двое — армия и флот; и этот слоган воспевают музы, и лидер видит в нем девиз страны… Сегодня к нам никто не хочет в узы. Лишь нефть и газ… но тоже неверны.
Сотрудник — подозрительное слово. Мне как-то от него не по себе. Оно не значит ничего другого, как тайный соработник КГБ. Среди сомнений тягостных подспудных приглядываясь к некоторым тут, бывало, спросишь: это не сотрудник? В ответ тебе уверенно кивнут. И кстати, труд — не главное занятье в Господнем ослепительном ряду, а наше первородное проклятье, и я не верю в братство по труду.
Есть слово неприятное «коллега». Само оно неплохо, но, увы, — его употребляет суперэго, что тут у нас на должности главы. В войсках, на рыболовном ли ковчеге, в гостях и дома, в тундре и в Крыму — ко всем он обращается «коллеги»; но мы же не коллеги же ему! Я не желаю чуждого ночлега, от бегства, так сказать, спаси Аллах, — но я ему нисколько не коллега в его весьма сомнительных делах. Когда минуют эти передряги и ночь уступит первому лучу, его коллеги будут все в Гааге, а я там не бывал и не хочу.
Во временах счастливых и несчастных, пригодных для проклятий и поэм, мне симпатично слово «соучастник». Оно тут применяется ко всем. Отечество вошло неудержимо в глубокий клинч, как предсказал Немцов: одни тут соучастники режима, другие — соучастники борцов. А третьих нет. Такой расклад бедовый у нас осуществился наяву. И потому — я соучастник «Новой» и вас к тому же самому зову.
История не знает слова «жалость». Здесь нету индульгенций для меньшинств. Ты воздержался (или воздержалась)? Отнюдь. Ты соучастник. Распишись. Увы, нейтралитета больше нету. Альтернатива — лишь небытие.
И вот — я выбрал «Новую газету» и числюсь соучастником ее.
Вложись в нее. К чему тебе посредник? Надежнее вложенья нынче нет. Я сам — ее сотрудник, «Собеседник» (где тоже соучастник тридцать лет). Нет выбора, коллеги. Жребий брошен. Зову вас русским стансовым стихом: давайте соучаствовать в хорошем.
Иначе все окажемся в плохом.
Дворовый романс*.
«МЫ ЗАЯВИЛИ, ЧТО, К СОЖАЛЕНИЮ, ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПРИДУМЫВАТЬ, КАК УЛУЧШАТЬ И ВЫВОДИТЬ ОТНОШЕНИЯ ИЗ ТУПИКА, ОТВЕЧАТЬ ЗЕРКАЛЬНО».
Мария Захарова
Как-то хочется мер радикальных в нашей бурной гибридной войне, как-то хочется санкций зеркальных, симметричных мечтается мне! Полюбила ты, падла, другого — лох и ботан, пардон и мерси, — говоришь: не ходи ко мне снова, не ходи и цветов не носи! Я пойду тебе, сука, навстречу в нашей общей гибридной борьбе, я тебе симметрично отвечу, я зеркально отвечу тебе — позабудь меня, гнусная цаца, я теперь тебе классовый враг, не ходи ко мне больше встречаться, несмотря что не ходишь и так!
Мне не важно, кому ты и где ты, — хоть араба, хоть негра ласкай: не таскай мне, зараза, конфеты и в коробке духи не таскай. Не корми меня в нашей столовой, я к подачкам твоим не готов, и гитарой своею дворовой не шугай моих жирных котов, не ходи с серенадой своею под подвальное наше окно, несмотря что котов не имею, но зато тараканов полно.
Посреди твоих прелестей знойных, — я их помню, хотя я изгой, — между ног твоих длинных и стройных наблюдается нынче другой. С новым мужем ты селфишься в блоге, с новым мужем ломаешь кровать, свои длинные стройные ноги мне уже не даешь целовать. Я зеркально отвечу в итоге, я жестоко тебе отомщу, свои толстые грязные ноги целовать я тебе запрещу. И в утехах своих буржуазных в санкционной войне половой ты без ног моих толстых и грязных будешь биться об пол головой!
— Я устала от пьяного блева! — гордо морщишь ты рожу свою. Что ж, пускай тебе будет хреново, я в ответ у себя наблюю. И в соитье своем безотрадном пусть долбит тебя скучный еврей, но блевать в моем пыльном парадном ты теперь симметрично не смей, никогда меня в лифте не лапай, у дверей не устраивай драк и на стенах моих не царапай свое грязное пошлое «fuck».
Отдавайся ты хоть эфиопу, раз не нужно тебе гопоты. Я любил ущипнуть твою попу, чтоб с игривостью взвизгнула ты, — но уж раз мы скатились к окопу и к войне откровенной такой, запрещаю щипать мою попу и одной, и другою рукой! Сам щипать себя буду за попу, сам до крови себя исщиплю, все стерплю, уподобясь холопу, а тебя я уже не люблю.
Не смеши моего искандера, и пускай он не знает манер — у другого и деньги, и дело, у меня же один искандер. И когда ты в пылу адюльтера отдаешься соседу-врагу — я чешу своего искандера и отчасти забыться могу. Я готов, если надо, побриться, я тоской и бездельем пропах, я готов бы от скучного БРИКСа побежать бы к тебе на руках! Но настала эпоха возмездий, непонятка в пацанской судьбе.
Так пойду и нагажу в подъезде, но уже, к сожаленью, себе.
* Данный романс является чисто лирическим произведением о превратностях дворовой любви, без всяких намеков на геополитику.
Что мы знаем о потомках, современные умы? Я б поведал им о том, как интересно жили мы. Тут пошла такая мода — ежедневно нам на суд с шестьдесят седьмого года поздравления несут: как прекрасно вы живете, все полней и веселей, в песнях, плясках и работе отмечая юбилей! Знать, достигло апогея просвещенье ваших масс; накануне юбилея вы слетаете на Марс; коммунизм давно построен, побежден стафилококк, каждый сам себе и воин, и творец, и педагог… Ну и я через столетье докричусь до вас, Бог даст: вы нашли там нечто третье, педриот и либераст? Вы не ходите по кругу, чередуя лесть и месть? Не желаете друг другу передохнуть или сесть? Увенчались ли усилья, кто справляет торжество, сохранилась ли Россия без того, того, того! — без того, кого Володин главной скрепою назвал, иль распалась на пять Родин, рухнув в гибельный развал? Опасения итожа, не тушуйся, патриот: «Дай нам, Боже, завтра то же!» — Он нас слышит. И дает. Свято веря в Божью милость, знаю, честно говоря, что ничто не изменилось, кроме имени царя: разве только, может, вместо помещенья под замок и домашнего ареста применяется залог, — но быть может, и по шее бьют бесчисленных зэка, ибо все куда страшнее в ваши четные века. Но, быть может, вам угодно заглянуть на наше дно? Что же, это мы свободно, мы расскажем, нам дано. Вы, потомки, не ругайтесь, вы поймите наш азарт: нынче время домогательств, приставаний, так сказать. Это главный тренд момента, эпизодов — до трехсот. Всяк с упорством импотента хоть не может, но трясет. Кто ж за чистую монету это примет в наши дни? Изнасилований нету — домогательства одни.
Вот создатель «Мирамакса» у тусовки на виду домогался, домогался — и домогся, на беду. На приеме, на отеле — сотни ветреных харит! Но ведь сами же хотели, он смущенно говорит. Вот опять же Кевин Спейси, автор грустного письма, человек огромной спеси и талантливый весьма, — прямо вслух назвался геем, извинился и рыдал… Но опять же мы имеем оглушительный скандал. Все его прессуют жестко, в голосах у всех металл: он преследовал подростка, там и сям его хватал, и склонял к преступным негам, откровенно, без чинов, и показывал коллегам, доставая из штанов… И за это Кевин Спейси, раз его попутал черт, так и сяк измазан в прессе и из «Домика» поперт, а создатель «Мирамакса» и былой любимец масс так ужасно замарался, что покинул «Мирамакс». И теперь они в провале, всех тащившие в кровать, — потому что им давали, не умели не давать.
Вот и наш народный лидер пережил крутой косяк: Трампа давеча увидел — уж и так его, и сяк, на загадочных и старых, на вьетнамских берегах: уж давай и в кулуарах, уж давай и на ногах, — чуть не брал его за галстук, не лобзал его в чело… Домогался, домогался — не домогся ничего. Добивался, как девицу, разве что не брал за грудь: говорил, хотим страницу, говорил, перевернуть, — взглядом трепетным огладил, как влюбленный крокодил, но не справился, не сладил.
И на этом победил.
Потому что Спейси Кевин, соблазнитель душ и тел, чей удел теперь плачевен, — получил, чего хотел. Да и Харви с мордой мопса, вечно шедший напролом, — что хотел, того домогся и наказан поделом. А любезный миллионам петербургский спецслужбист — чист теперь перед законом и пред Родиною чист: мы крутое государство, не нарвались на скандал, так и надо домогаться, чтоб никто тебе не дал.
Ибо мы — столпы морали у планеты на виду и опять переиграли всех в семнадцатом году.