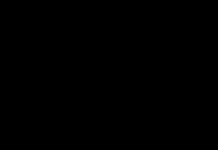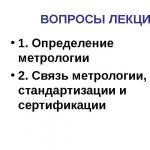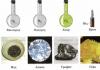Линия «Зла» в произведениях русской литературы
90-х годов ХХ века.
В настоящей работе мне бы хотелось затронуть одну из самый ярких черт, на мой взгляд, русской литературы конца ХХ века, я бы назвала ее «линией зла» или жестокости. Написание этой работы было вдохновлено статьей Алексея Варламова «Убийство» («Дружба Народов» 2000 , №11) и рядом критических статей из журналов «Знамя» , «Вопросы литературы» и «Новый мир» .
Российская действительность последнего десятилетия такова, что невозможно хотя бы раз не упомянуть о пролитии крови, о посягательствах на жизнь людей. В данной работе рассматривается вопрос о том, как отразилась «жестокая» российская действительность на творчество современных писателей? Оправдывается или осуждается ими убийство? Как они решают проблемы жизни и смерти? И наконец, какие открытия были сделаны современными писателями? Посмотрим на некоторые произведения последнего десятилетия ХХ века.
«Великая русская литература, чистая русская литература» можно услышать от иностранцев, читавших Толстого и Достоевского. А знают ли они какой путь прошла русская литература из XIX в XXI век? Задумывались ли они в каких условиях приходится писать нынешним авторам? К сожалению, а может быть это так и должно было быть, период «чистой» русской литературы оборвался Революцией 1917 года и последовавшим за ней «красным террором» . Началась новая история, новая литература. В последних строках своей гениальной поэмы «Двенадцать» Александр Блок написал:
Впереди – с кровавым флагом
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз –
Впереди – Исус Христос.
Блок видел будущее советской России, видел под каким знаменем она будет шагать, отказавшись от Святого. В послереволюционной литературе можно увидеть два больших лагеря: в первом - авторы, осуждающие насилие, как средство восстановления нового режима (например, Иван Бунин) , во втором – те, кто провозглашает террор, как единственно правильный путь к светлому будущему (Исаак Бабель «Красная гвардия») . «У России и нет иного пути цивилизованного развития, как искоренение варварства варварскими средствами. «Красный угол истории» оправдывал любые средства на пути к историческому прогрессу, любые жестокости, любой произвол: гибель той или иной личности, того или иного числа людей – все это мелочи в контексте исторического целого и преследуемых целей!» 4)
В особый лагерь следует отнести Николая Островского и Алексея Толстого. Кажется, что Толстой в романе «Петр Первый» оправдывает своих коронованных героев, поет осанну русскому самодержавию, его созидательному потенциалу, чем писатель эстетизирует Зло в русской истории как конечное проявление исторического Добра и поклоняется страданию русского народа как предпосылке его грядущего, не осознанного им самим величия. Николай Островский в романе «Как закалялась сталь» обосновал «новое православие» , если угодно, по-другому коммунистическую идейность. С помощью этих изысков и новаций писатели, по мере своего таланта и творческих сил, возвышались над советской эпохой или убегали от нее. И часто получалось, что, убегая от своего времени – в будущее или прошлое, - они как раз и возвышались над своей эпохой, обретая более или менее долгую жизнь в искусстве, если уж не бессмертие. Но феномен Островского и Толстого в том, что их идеи соответственно коммунистического православия и советского самодержавия, сильно смахивают на те, революционные, «уваровские» ... 4)
В русской литературе 1-й половины XX века убийство освящалось революционной необходимостью, объяснялось классовой борьбой. Литература оправдывала человека, совершавшего убийства, потому что он плыл в «железном потоке» , плыл к единой для всего народа светлой цели. Но чем же можно объяснить такое обилие «жестоких» произведений в русской литературе конца XX века?
После затишья в литературе 60-70-х гг. в произведениях 80-х годов, сначала скромно, начинают появляться персонажи, проливающие кровь, а в 90-х гг. почти в каждом произведении речь идет о жестокостях и смерти. Эпоха «исторических сдвигов» окончилась, построено то общество, которое было когда-то так желанно. Жизнь вошла в свое обычное русло, и теперь преступников нельзя оправдать ходом истории. Следует смотреть в их души, умы.
Преступники Достоевского, Лескова еще ходят под Богом, преступники конца XX века остались без Него. 2) Тема убийства
для нас не нова. Первое, что приходит на ум, - «Преступление и наказание» Федора Достоевского, затем рассказ Ивана Бунина «Петлистые уши» , где главный его герой, необыкновенно высо -кий «ужасный господин», патологический убийца по фамилии
Соколович, рассуждает следующим образом:
«Страсть к убийству и вообще ко всякой жестокости си-дит, как известно, в каждом. А есть и такие, что испытывают со-вершенно непобедимую жажду убийства, - по причинам весьма
разнообразным, например в силу атавизма или тайно накопив –
шейся ненависти к человеку, - убивают, ничуть не горячась, а
убив, не только не мучаются, как принято это говорить, а, на-против, приходят в норму, чувствуют облегчение, - пусть даже их гнев, ненависть, тайная жажда крови вылились в форму мерз-кую и жалкую. И вообще пора бросить эту сказку о муках, о совес-ти, об ужасах, будто бы преследующих убийц. Довольно людям лгать, будто они так уж содрогаются от крови. Довольно сочинять романы о преступлениях с наказаниями, пора написать о преступ-лении безо всякого наказания» .
Это было написано в 1916 году, то есть как раз накануне страшного периода братоубийственных войн, и представляло со -бой очевидную полемику с «бульварными романами» Достоевско –го. Но именно этими двумя полюсами при всей разновеликости образов Раскольникова и Соколовича и обозначается названная те- ма в новой русской литературе. Достоевским была задана мило-сердная традиция - Бунин устами и поступком своего персонажа против нее восстал. Третья линия, даже не срединная, а стоящая особняком, принадлежит Лескову. Его наделенный неизбывными жизненными силами Иван Северьяныч Флягин совершает убийст-во безвестного монашка бездумно, а если пристальнее вглядеться в авторский замысел, то по Божьему попущению. Убийство было необходимо, чтобы с героем случилось то, что с ним случилось, послужило своеобразной з а в я з к о й его жизненных странст- вий и, в конечном итоге, - спасению души, но никак не финалом. Точно так же убийство старухи-процентщицы служит завязкой и у Достоевского, и хотя странствия героев двух писателей оказы- ваются очень разными, оба они ходят под Богом и к Богу прихо-дят 2) .
Главный герой романа Вл. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени», одного из больших романов, которым завершался XX век, утверждает: «если есть бессмертие, все позво-лено» . XIX век завершался романом «Братья Карамазовы» («Воскре-сение» все же больше принадлежит уже к следующему столетию), грозным предупреждением нараставшему разгулу богоборческой
эйфории: «Если Бога нет, то все позволено» . Здесь, конечно, не случайная перекличка: в контрапункте этих высказываний вся суть изменившихся за сто с лишним лет основ миропонимания 7) .
Петрович не материалист, он признает существование Бо-га. Но Бог для него где-то там, за закрытыми Небесами, непонят-ная, загадочная и страшная сила (в буквальном смысле - то есть обладающая возможностью наказать) - так всегда бывает, если отсутствует единственно возможная двусторонняя связь - любовь. Наказание подразумевается лишь внешнее, ибо с совестью герой нашего времени научился управляться уже давно - с помощью
ума. Логику Бога понять невозможно: Он может наказать за убий-ство, а может и не наказать... Связи человека с Богом и другими людьми нет: жажда покаяния - лишь признак слабости 7) .
Первым после затишья 60-70-х годов оказался Виктор Ас –тафьев, опубликовавший в 1987 году едва ли не лучший из своих рассказов - пронзительную, горестную «Людочку». Там не бы-ло еще выстрела, не было, как сказал бы маканинский Петрович, удара, но убийство состоялось. Вернее, не убийство, но праведная расправа, святая месть сильного и волевого человека подонку за поруганную человеческую жизнь. Болевой шок, обрушенный в этом рассказе на читателя, был столь велик, что невольно забы -валась одна вещь: в противовес русской традиции всегда и во
всем входить в обстоятельства каждой человеческой жизни, да-же самой мерзкой (например, Ставрогина, особенно если считать ставрогинский грех в романе «Бесы» бывшим, Федьки-каторжника или того же бунинского Соколовича) , Астафьев в образе «пороч - ного, с раннего детства задроченного» насильника Стрекача вывел нелюдя, который в буквальном смысле не имеет права на сущес-твование. А точнее, даже не создал, не придумал, не обобщил, но увидел и обозначил хорошо узнаваемый тип, достойный именно той страшной смерти в кипящей адской воде, которая и была ему автором уготована.
Выстрел появился позднее - у Леонида Бородина в «Бо - жеполье» . Он прозвучал даже не как месть оскорбленной женщи-ны за ею обманутого, но не ею преданного мужа, а как своеобраз- ное покаяние перед ним. Важно то, что в обоих случаях писатели не то чтобы морально оправдывают убийство (вопрос об оправда-нии ими не ставится) , а то, что для их персонажей это единст- венное возможное действие, неподсудный поступок настоящих людей. Астафьев и Бородин ставят выстрелом или справедли - вой расправой т о ч к у в своих произведениях, вынося все мета-физические вопросы за скобки, утверждая таким образом победу добра над злом, справедливости над несправедливостью и даже не проверяя свою идею на прочность, ибо она для них аксиома, доказывать которую нет нужды 2) .
Достоевский сквозь дым и разрывы адских машин первых террористов прошлого века, но все же еще издалека, видел впере-ди России пропасть, загадывал, что будет в мире, где нет Бога и все дозволено, Лесков противопоставлял революционному ниги –
лизму своих праведников, Бунин приблизился к провалу вплотную и оставил «Окаянные дни»; «Петлистые уши» были прологом и предчувствием. Герои Астафьева и Бородина в бездне и в этом
мире живут. Они обитают в бесчеловечном измерении - иную, человеческую, реальность утратив или вовсе ее не зная 2) .
Особенно это ощущение бездны, антимира чувствуется в астафьевском романе «Прокляты и убиты» , где количество смер -тей повергает автора в отчаяние и ужас, из которого он не видит выхода и лишь некоторое утешение находит в сцене справедли - вой казни. И хотя ни у Бородина, ни у Астафьева убийство не является главным событием и проистекает оно скорее от отчаян- ной решимости, а герои их, в сущности, никакие не убийцы, за всем этим, повторюсь, стоит нечто новое, появляющееся на наших глазах, чего в литературе прошлого века не было и не могло
быть. Причем речь идет о писателях, которых я отношу к наибо-лее значительным и неслучайным сегодняшним прозаикам - че-рез которых говорит сама наша жизнь. Так что же это - измена милосердным заповедям русской литературы, усталость, безыс- ходность, отчаяние, отсутствие иного выхода или же подлинная литература в совершенно новых обстоятельствах? 2)
Подобный сдвиг доказывает не косвенно, но прямо, что мы действительно уже давно находимся в состоянии войны. Не-ясно только, гражданской или какой-то еще, потому что гражда- нами героев нынешней русской литературы, равно как и жите- лей страны, назвать трудно. Они живут в обезбоженном мире, где нет ни закона, ни милосердия, ни пригляда свыше и вся на- дежда на справедливость, на защиту человеческого достоинства ложится на человеческие плечи. Если зло не накажу я, его не
накажет никто. И в этом смысле мы стали еще дальше от хрис-тианства, чем были в советские времена. «Матренин двор» Солже-ницына и распутинский «Последний срок», «Привычное дело» Бе-лова и «Последний поклон» Астафьева, «Калина красная» Шукши-на и «Обелиск» Василя Быкова, «Друг мой Момич» К. Воробьева и «Хранитель древностей» Ю. Домбровского, произведения Е. Носо- ва, В. Курочкина, Ф. Абрамова, И. Акулова - все эти лучшие
книги мирного, «странного», как называл его Леонид Бородин, вре-мени (и список этих книг, конечно же, может быть продолжен) были пронизаны христианским светом, который не могла заглуш-ить никакая цензура. Сегодня этот свет почти померк... 2)
Ощущение богооставленности 1) (максимум религиозности, - и это очень честно! - на которую способен персонаж «Людочки», - содрать с насильника Стрекача крест и сказать: «Это не тро –
гай!» , и не случайно эпиграфом к другой своей повести, «Весе-лому солдату», выбирает Астафьев слова Гоголя: «Боже правый! Пусто и страшно становится в Твоем миру»), горькое, бесприютное и искреннее чувство, которое дано ощутить лишь тем, кто Бога ведал, потерял и алчет, и составляет нашу русскую беду и содер-жание лучшей части нашей сегодняшней литературы.
Все отчетливее проступают в нашей словесности жесто- кость и мстительность. Рискну предположить, что именно с этим трагическим мироощущением, с сиротливостью и бездомностью со-временного человека и связано напрямую убийство как централь-ная тема русской литературы нового рубежа столетий 2) .
Все вышесказанное вовсе не означает, что нынешняя про-за стала безнравственнее или хуже, чем два десятка лет назад, что сделались злодеями или аморальными людьми писатели, их герои и читатели, - нет, мы все те же, хоть и денежный вопрос нас порядком подпортил, но многие подошли к какому-то пределу, бездумно исчерпали прежние запасы духовности, оставленные нам нашими предками, и, по-видимому, иначе как через тьму и отчая-ние, через страдание не сможем подлинную духовность снова об-рести. Эта страница неизбежна и должна быть прожита, сегодня она пишется, и вопрос лишь в том: не грозит ли русской литера-туре себя потерять на ее пути за героями, идущими по такому
хрупкому и коварному весеннему льду над стылой водой 3) .
Именно по такому пути идет Владимир Маканин, писа -тель, очень к рефлексии и утонченному психологизму склонный. В романе «Андеграунд, или Герой нашего времени» он пишет
убийцу изнутри, детально прорабатывает его психологический портрет, его душевное состояние, мотивы, ощущения. Мир героя очень зыбок, вообще зыбкость, непрочность - вот черты маканин-ской прозы, и только в этих условиях его персонаж чувствует се-бя хорошо. Петрович при всей своей внешней неустроенности и никчемности, не оставивший после себя ничего, кроме двух мерт-вых тел, - ни рукописи, ни детей, ни имущества,- по-своему счастлив. Убийство маканинский герой совершает с целью ут-верждения собственного достоинства. то, что герой Маканина по-винен в двух смертях, не совершив которые (пусть даже и мыс - ленно) не смог бы утвердить себя как личность, - тоже примета времени 2) .
И все же своеобразный «пацифизм» , определенная нере- шительность и неуверенность обыкновенного человека в своем
праве на убийство и месть, если только не случилось с ним со- бытия чрезвычайного, а даже если и случилось, сожаление и пе- чаль гаснут и растворяются в произведениях более «решительно» настроенных прозаиков, своего рода новых радикалов.
Все последние романы Анатолия Афанасьева, написанные на стыке жанров патриотического боевика и политического памф-лета (сознательно несущие на себе определенные признаки ком- мерческой литературы и все же очевидно выходящие за ее рам- ки) , тянут за собой целый шлейф праведных и неправедных
убийств. В своеобразном бестселлере «Зона номер три» создается целый кошмарный мир, в котором убийство становится нормой, развлечением для богатых подонков, новых хозяев жизни, и, что-бы этот мир одолеть, надобно тоже без устали убивать, и только человек, способный в ответ убивать, может быть сегодня героем. В этом же ряду стоят роман Юрия Козлова «Колодец пророков» ,
его же повесть «Геополитический романс» и повесть А.Бородыни «Цепной щенок» .
Идея злосчастной зоны, возникающей на теле России, очевидно витает в пропитанном жутью воздухе и не разбирает,
где право, где лево.
Чингиз Айтматов в романе «Тавро Кассандры» фактичес-ки допускает или даже освящает убийство младенцев во чреве
матери, если из них могут вырасти потенциальные злодеи. В
его произведении, хотел автор того или нет, космический монах Филофей претендует на то, чтобы стать своеобразным праведным Иродом - идея изначально столь же порочная, сколь и нелепая, но ведь не от хорошей жизни пришла она писателю в голову 2) .
Можно привести еще множество примеров, и все они так или иначе говорят об одном. Концентрация зла в современной
литературе превысила все мыслимые пороги, зашкаливает за
крайнюю черту и становится объектом для пародий и экспери - ментов, убийство сделалось такой же неотъемлемой частью ро-манного сюжета, какой в литературе прежних лет была история любви.
Подлость нашего «свободного» времени в том и прояви-лась, что оно оказалось безОбразным и безобрАзным, но зато
слишком зрелищным и телевизионным, и литература начала вы- нужденно к этому приспосабливаться. В отличие от прежних лет в лучших своих проявлениях привыкшее не только противостоять насилию, но и быть в разладе с действительностью, противоре- чить газетам и телевидению, различать добро и зло и уберегать человеческую душу, сегодня практически не доходящее до общес-тва слово писателя оказалось в положении весьма странном. Оно не только нарушает многие традиционные запреты, говорит о том, о чем говорить прежде не было принято, но все больше и больше всеобщему безумию уподобляется, гоняясь за читателем и превра-щая его в заложника занимательности, притупляя болевой порог и, если так можно выразиться, «беллетризируя», а еще точнее, «телевизируя» и приручая убийство. Вот здесь-то, в этой точке со- отношения д е й с т в и т е л ь н о й или в и р т у а л ь -
н о й картины бытия, и происходит водораздел между истиной и ложью, на этом поле и случается измена традиции слова, а зна-чит, правде 2) .
Бытие литературы не подсудно никаким законам и аб -страктным рассуждениям, и если эти романы, повести и рассказы были написаны, значит, они должны были быть написаны. Ви- нить писателя в том, что он пишет так, а не иначе, бессмыслен-но, и не об этом речь, да и потом разве возможно рождение без смерти, а жизнь без убийства, куда и зачем прятаться, чему брез-гливо противиться, когда пролитая кровь обступает все больше и больше и наше сознание, и наше бытие? 2)
Русские мыслители минувших веков, предвидя надвига-ющийся кризис религиозного сознания, пытались предсказать, как будут жить люди, утратившие Бога. Вынужденные компенсиро-вать потерю питающей жизнь божественной любви, люди снача-ла начнут сильнее любить друг друга (но только ближних, даль-ние, за пределами «освещенного круга», вообще перестают воспри-ниматься как реальные, способные испытывать боль живые су - щества) . Но эта любовь станет не дарующей, а забирающей
(для себя) , в большой степени пожирающей, восполняющей соб- ственную энергию - и главным образом направленной не на ду-шу, а на плоть ближнего. (В романе Маканина это проявляется наглядно: при описании многочисленных «любовей» Петровича) . Следование небесным идеалам и образцам в выстраивании своей жизни заменяется ориентацией на “галерею” политических, воен-ных, литературных, артистических, спортивных и т.п. культовых фигур. Вера в сверхъестественные силы и в чудеса сохраняется, но понять их действие становится невозможно; в то же время хо-чется разгадать их «механизм» и овладеть ими (для утверждения своей власти) . И, наконец, люди перестают понимать друг друга, ибо каждый начинает вкладывать в слова свою правду, и насту-пает непонимание, раздоры, а затем и война всех против всех. Все это, повторяю, происходит под закрывшимися Небесами, в
усиливающемся мраке, в подполье 7) .
Такие писатели-«могикане» , как Ч.Айтматов, В.Быков, первые преодолевшие эстетику соцреализма, и заслужившие этим признание читателя, в своих последних произведениях говорят о Зле как о неискоренимом и непобедимом. Взгляд Чингиза Айтматова на человечество вполне безнадежен. В своем скудо –
умном упрямстве оно так далеко зашло стезею зла, что начинают бунтовать уже его физические гены, клеточная материя. Образы романа Ч. Айтматова «Тавро Кассандры» чрезвычайны и поражают воображение: космические невозвращенцы, бунт эмбрионов, икс - роды, зечки-инкубы, киты-самоубийцы - из всего этого выстроена оригинальная художественно-философская конструкция, призванная разбудить в читателе эсхатологическое видение действительнос-ти 6) .
В последней повести В. Быкова «Стужа» пожилая белорусс-кая крестьянка и изощренный французский интеллектуал бьются над одним и тем же вопросом: следует ли бороться со злом в об-
стоятельствах, когда оно непобедимо? Итог борьбы предрешен; средств нападения нет; средств защиты тоже; о том, что произош-ло, никто никогда не узнает. Если учить по Быкову, то фашизм, нацизм, большевизм и множество иных скверн подобного рода из-вечно дремлют в межклеточных мембранах людской природы.
Когда эта иммунная мембрана истощается, человек, народ, челове-чество само призывает своими поводырями и праведниками Гитле-ра, Сталина, Пол Пота или какого-нибудь другого беса из ордена сатаны 6) .
В конце 80-х-начале 90-х годов по ошеломленной и
весьма пестрой русской словесности от грандиозной леоновской «Пирамиды» до вездесущего Вик. Ерофеева через книги В. Макани-на, Л. Петрушевской, А. Кима, О. Ермакова, В. Шарова, В. Белова, Ф. Горенштейна, В. Распутина, П. Алешковского, А. Проханова, С. Залыгина, А. Слаповского - ну, казалось бы, что между этими авторами общего? - прокатилась волна апокалиптической, при-чем не в религиозном, а светски-катастрофическом понимании это-го слова, литературы.
Писатели самых разных направлений, от реалистов до постмодернистов, представители разных политических взглядов, от ультрапатриотов до ультрадемократов, в метрополии и в эмиг-рации, авторы разных возрастов, маститые и совершенно никому не известные, избирали тему конца света в качестве основного
мотива для построения своих сюжетов. Не было б большой натяж-кой сказать, что в русской литературе 90-х годов труднее найти писателя, так или иначе не коснувшегося темы Апокалипсиса 2) .
Ничего случайного в том не было. В основе «апокалип-тического всплеска» нынешнего fin de siecle лежал глубочайший
кризис позитивистской мысли, вызванный исчерпанностью всех прогрессистских и утопических теорий и идей, идущих от эпохи Просвещения и поставивших мир на порог аннигиляции. И если Россия в силу целого ряда объективных и субъективных причин
стала той страной, где общечеловеческий кризис достиг наи –
большей глубины (и в этом мы опять оказались впереди плане-ты всей, а потому наш опыт бесценен) , то русская литература стала тем органом, который наиболее болезненно на него отреа- гировал 2) .
В году 2000-м исторический опыт уже не оставляет нам права гадать, какое символическое содержание может знаменовать собой фигура, шествующая в финале «Двенадцати» «с кровавым флагом» (именно кровавым - тайновидческая интуиция Блока не подвела) 5) .
Десять лет назад выброшенные из социализма в никуда, мы готовились всем скопом погибнуть и пропели себе отходную. Но остались жить и первым делом схватились поодиночке за ору-жие и стали убивать. Национальная идея, новая архитема русс- кой прозы, кажется, обозначилась со всей очевидностью - нанес-ти удар и найти ему соответствующее оправдание. У кого-то по-лучается тоньше, у кого-то грубее, кто-то искренен, а кто и ловит рыбу в мутной воде, писатель пугает, его малочисленному чита-телю страшно, и ни тот ни другой не ведают, есть ли и каков выход из этого замкнутого круга? Впрочем, если следовать Данте, выход есть: Чистилище 2).
Надо надеятся, что русская литература переживет это жестокое время. Она будет исцелена вместе с исцеленной Россией. Нам следует расскаятся и за себя и за предков. Возвать к Богу, после чего выключить у наших детей телевизор и дать им вместо этого сборник удивительных по своей доброте рассказов Леонида Нечаева «Старший брат» . Есть еще в России любящие ее праведники, которые молятся за нее.
«Переживание богооставленности, - писал Бердяев, - не означает отрицание существования Бога, оно даже предполагает существование Бога. Это есть момент экзистенциальной диалектики богообщения, но момент мучительный. Богооставленность переживают не только отдельные люди, но и целые народы и все человечество и все творение. И это таинственное явление совсем не объяснимо греховностью, которая ведь составляет общий фон человеческой жизни. Переживающий богооставленность совсем может быть не хуже тех, которые богооставленности не переживают и не понимают» .
Варламов А., Убийство. // Дружба Народов, 2000. - №11 .
Екимов Б. «Возле стылой воды» .
Кондаков И., Наше советское «всё» . // Вопросы литературы, 2001 . - №4 .
Лавров А., Финал «Двенадцати» - взгляд из 2000года. // Знамя, 2000. - №11 .
Сердюченко В., Могикане. // Новый мир, 1996 .- №3 .
Степанян К., Кризис слова на пороге свободы. // Знамя 1999. - №8 .
§ 4. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 80–90-х ГОДОВ XIX ВЕКА
Последние десятилетия XIX века были обозначены серьезными переменами в общественной и литературной жизни России.
Утверждение капитализма в экономике повлекло изменения в социальной, культурной, духовной сферах русской жизни. После либеральных реформ 60–70-х годов во внутренней политике восторжествовал консервативный курс. Крылатыми стали слова Блока о России 80-х годов:
В те годы дальние, глухие
В сердцах царили сон и мгла,
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи,
А только - тень огромных крыл.
В общественной мысли изжили себя просветительские иллюзии, потерпели крах идеи народничества, утопизм общинного социализма. Но в то же время вызревали новые интеллектуальные силы, шла упорная, часто подспудная работа коллективной мысли. На смену революционным призывам стремительной коренной ломки устаревших государственных институтов пришли идеи постепенного преобразования страны. Молодежь «манила к себе легальная общественная деятельность, но на этой почве мы все же готовили себя к борьбе за свои идеалы, терпеливой, настойчивой, неуклонной», - писал современник. Не были утрачены прогрессивные и гуманные идеи, которыми жила русская интеллигенция предшествующих лет, однако разочарование в прежних политических идеалах вызвало спад общественного движения, измельчание общественных интересов, появление упаднических настроений.
Определились новые духовные искания интеллигенции. Н. А. Бердяев писал: «Были признаны права религии, философии, искусства независимо от социального утилитаризма, моральной жизни, то есть права духа, которые отрицались русским нигилизмом, революционным народничеством и анархизмом…».
Изменения коснулись и литературы. Ушли из жизни в начале 80-х годов Тургенев и Достоевский, отошел от художественного творчества Гончаров. На литературном горизонте появилась новая плеяда молодых мастеров слова - Гаршин, Короленко, Чехов.
В литературном процессе отразилось напряженное развитие общественной мысли. Вопросы общественного и государственного устройства, быта и нравов, национальной истории - по сути, вся русская жизнь была подвергнута аналитическому освещению. При этом был обследован огромный материал, поставлены великие, определяющие дальнейший прогресс страны проблемы. Но вместе с тем русская литература наряду с так называемыми «проклятыми вопросами» отечественной действительности приходит к постановке и общечеловеческих нравственных и философских проблем.
Реалистическое направление оставалось господствующим, достигнув выдающихся успехов в предшествующий период. Тем не менее, с начала 80-х годов ряд крупных мастеров слова обнаруживают стремления к поиску новых выразительных средств. В переписке, статьях Л. Толстого, В. Короленко, А. Чехова, позднее М. Горького постоянно возникали вопросы о дальнейших судьбах реализма. Процесс развития и трансформации художественного реализма носил общеевропейский характер. Об этом писали Ромен Роллан, Анатоль Франс.
Развитие капиталистических отношений обозначилось не только ростом городов, строительством железных дорог, фабрик и заводов, но и изменениями в психологии людей. Новые условия жизни прождали новые понятия, меняли человеческие чувства, восприятия и духовные потребности. Актуальную остроту обретал вопрос, заданный Чеховым в одном из писем: «Для кого и как писать?». В это же время Толстой неоднократно признавался в письмах и дневниках, что ему совестно изображать вымышленных героев.
О дегероизации литературного персонажа писал Короленко: «Мы теперь уже изуверились в героях, которые (как мифический Атлант - небо) двигали на плечах артели (в 60-х годах) и „общину“ (в 70-х). Тогда мы все искали героев, и господа Омулевские и Засодимские нам этих героев давали. К сожалению, герои все оказались… не настоящие, головиные. Теперь поэтому мы, прежде всего, ищем не героя, а настоящего человека, не подвига, а душевного движения, хотя и не похвального, но непосредственного».
Творческие искания Толстого, Чехова, Короленко были глубоко индивидуальны. Но их объединяла общая направленность - в судьбах литературных персонажей усматривается отражение судеб общества, личная судьба становится поводом для постановки общечеловеческих нравственных проблем, по-новому осуществляется связь объективного повествования и субъективного авторского видения обстоятельств повествования. Поиски новых средств выразительности приводили в некоторых случаях к склонности употреблять символы, иносказания, аллегорические концовки повествования, введение в реалистический текст фактических или философских сюжетов.
В то же время попытки художественного осмысления действительности привели часть писателей к натуралистическому ее воссозданию. Целью этого направления стало непосредственное воспроизведение возможно большего количества современных жизненных фактов и явлений. Наиболее показательным в этом отношении являлось творчество П. Д. Боборыкина - фантастически плодовитого писателя (автора 20 романов, 50 повестей и рассказов, 20 драматических произведений и огромного количества статей), романы которого содержали массу эпизодов и действующих лиц. Целью писателя было «схватить и изобразить настоящий момент». Но при этом многочисленным произведениям Бобрыкина не хватает глубины, они содержат сырые, необработанные жизненные зарисовки, большое количество ненужных для сюжета персонажей.
Механическое копирование жизни и угождение вкусам определенной группы читателей нередко приводили к апологетике героев, полностью принявших устои современной социальной жизни, буржуазии. Чехов в письме Суворину писал о «бодром» таланте И. Н. Потапенко и о представителе мещанской беллетристики К. С. Баранцевиче: «Это буржуазный писатель, пишущий для чистой публики, ездящей в III классе. Для этой публики Толстой и Тургенев слишком роскошны, аристократичны, немножко чужды и неудобоваримы… Станьте на ее точку зрения, вообразите серый, скучный двор, интеллигентных дам, похожих на кухарок, запах керосинки, скудость интересов и вкусов - и вы поймете Баранцевича и его читателей. Он не колоритен. Он фальшив, потому что безнравственные писатели не могут быть не фальшивыми».
Таким образом, осуждая приукрашенное, фотографически подобное, но не истинное воспроизведение современной жизни, Чехов утверждал необходимость нравственной идеи в художественных произведениях. Это же требование было творческим стимулом крупнейших писателей-реалистов конца XIX века.
Отечественное бытие, особенно провинциальное с его особенностями и пороками, стало предметом пристального внимания одного из наиболее социальных писателей тех лет - В. Г. Короленко.
Биография писателя достаточно характерна для прогрессивно мыслящего интеллигента второй половины XIX века. Сын чиновника судебного ведомства, он еще гимназистом лишился отца. В 1874 году поступив в Московскую Петровскую сельскохозяйственную академию, через 2 года был исключен из нее, а затем и выслан за участие в коллективном протесте студентов против полицейского режима, царившего в этом учебном заведении.
Все молодые годы Короленко прошли в тюрьмах и ссылке. После окончания первой ссылки, вернувшись в Петербург, он поступил в Горный институт, но в 1879 году за причастность к народническим кружкам был сослан сначала в Глазов; а затем в «лесную глушь» - Березовские Починки. Оттуда переведен в Пермь. В 1881 году после убийства Александра П за отказ присягать новому императору, начавшему правление с казней народовольцев, Короленко был снова судим и отправлен на три года в Якутию. Лишь в 1885 году ему удалось вернуться в среднюю полосу России и поселиться в Нижнем Новгороде. Период его жизни в этом городе (1885–1896) был самым значительным и плодотворным в творческом отношении. Сотрудничая в столичной прессе, он активно включился в общественно-политическую деятельность: боролся с хищениями в уездном земстве и дворянском банке, участвовал в 1891–1892 годах в организации помощи голодающим, выступал в защиту крестьян-удмуртов, несправедливо обвиненных в человеческих жертвоприношениях, в знаменитом Мултанском деле. «Я, - писал Короленко в 1889 году, - сильно увлекся местными интересами, а местные интересы, по крайней мере, настоящего времени, - почти целиком хищения, хищения и хищения». Однако «назвать вора вором, - как позднее вспоминал писатель, - было чрезвычайно опасно. Не шутя, читатель, тогда это значило посягнуть на „основы“».
Обращаясь к различным частным вопросам провинциальной жизни, Короленко при этом постоянно стремился добраться до «сути», до тех серьезных социально-экономических факторов, которые вызывали подобные явления. Писатель при этом естественно подходил к вопросу о формах народнохозяйственной жизни, о промыслах, фабриках, железных дорогах, то есть по существу вопросу о капитализме.
В 1890 году появились его «Павловские очерки», посвященные известным кустарным промыслам Павловского посада. Как известно, кустарную форму производства наравне с общиной народники считали типичным признаком самобытного пути развития русского народного хозяйства. Короленко рассматривает эти мнимые «устои», показывает их обреченность. Уже вступление к «Очеркам» рисует картину «замшелой старины», безнадежной дряхлости во внешнем облике поселка. Символом этого запустения становится звук надтреснутого колокола, который оглашает окрестности хриплыми, жалобными звуками.
Анализируя экономику кустарных промыслов, писатель убедительно показывает полную зависимость кустарей от скупщика. Зябким ранним утром кустари собираются у конторки его и с надеждой ждут, когда скупщик зажжет свечу. Если же этого не произойдет, все они обречены на страшный голод. Но и скупщик, торгуясь с каждым «до последней слезы», тоже зависит от требований рынка, «с его меняющимися настроениями, с его колеблющимся спросом», бесстрастного и стихийного, как океан.
Опровергая последние иллюзии о самостоятельности кустарных промыслов и квалифицируя их как безнадежно устаревшую форму экономической деятельности, уже вовлеченную в рыночные отношения, Короленко с жестокой правдивостью показал страшное обнищание кустарей, беспросветность их существования.
В одном из домиков писатель застал трех женщин - мать, старшую дочь лет восемнадцати и девочку двенадцати-тринадцати лет. Все они были похожи одна на другую - худые, сморщенные, апатичные. Особенно поразил Короленко вид девочки. «Это был буквально маленький скелет… Лицо, обтянутое прозрачной кожей, было страшно, зубы оскаливались, на шее, при поворотах, выступали одни сухожилья… Это было маленькое олицетворение голода!..».
Освещая процесс капитализации кустарных промыслов, Короленко обратил внимание и на психологическую его сторону. Отношения кустарей и скупщика полны вражды и ненависти… Чтобы стать скупщиком и приобрести страшное умение «доставать» человека в нужде, заставлять его плакать «кровавыми слезами», надо отбросить прочь «все душевные свойства, все побуждения… все страсти, чувства, стремления, кроме простейших стремлений к стяжанию богатства…».
В капиталистическом производстве писатель видел лишь непосильный труд, эксплуатацию и нищету работников. Поэтому, отчетливо понимая обреченность кустарного промысла как пережитка «затхлой» старины, Короленко, тем не менее, верил в возможность реформирования его с помощью интеллигентных деятелей. Тема русского капитализма так или иначе была затронута в творчестве всех видных писателей того времени.
Ряд повестей А. П. Чехова посвящен распространению буржуазных отношений в городской и сельской среде.
В рассказе «Случай из практики» экономический закон капитализма воспринимался героем повествования как некое злое чудовище. Доктор Королев, приехавший на фабрику Ляликовой к больной дочери владелицы, ночью, гладя на фабричный корпус, думал: «Тут недоразумение, конечно… Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха, в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара; сотня людей надзирает за этой работой, и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на брань, несправедливости, и только двое-трое, так называемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец». И ему казалось, что светящиеся окна фабрики - глаза дьявола, который владел тут и рабочими и хозяевами. «И он думал о дьяволе, в которого не верил, и оглядывался на два окна, в которых светился огонь. Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрел на него сам дьявол, та неведомая сила, которая создала отношения между сильными и слабыми…». Эта неведомая сила, казавшаяся доктору «грубой и бессознательной», поражала не только слабых, но и сильных - наследница состояния, дочь Ляликовой несчастна, одинока, подавлена сознанием бессодержательности и несправедливости своей жизни.
Но если в «Случае из практики» капиталистические отношения представали в облике «неведомой силы», фантастического чудовища, то в чеховских повестях из крестьянской жизни они материализовались в жизненные фигуры и действия.
И в «Мужиках», и «В овраге» царит власть тьмы и власть денег. Причем в последней повести оказывается, что деньги - фальшивые, ибо сын купца Анисим становится фальшивомонетчиком, а старый купец, мешаясь в уме, не может отличить фальшивые деньги от настоящих. По смыслу повести деньги, по существу, действительно фальшивые, и еще более непригодна, фальшива жизнь, отданная на служение им. Жизнь эта проходит в овраге, в котором «не переводилась лихорадка и была топкая грязь даже летом», где даже воздух, которым дышат люди, гнилой.
«От кожевенной фабрики вода в речке становилась вонючей; отбросы заражали луг, крестьянский скот страдал от сибирской язвы».
В повести отражен процесс имущественной дифференциации деревни, наряду с нищенским большинством появляются богатеющие односельчане. Богатые спокойно, открыто и нагло обирают бедных, они ведут запрещенную торговлю вином, и вино это негодное, отвратительное на вкус. Жена старика Цыбукина, владельца лавки, сетовала: «…живем как купцы, только скучно у нас. Уж очень Народ обижаем… Лошадь ли меняем, покупаем ли что, работника ли нанимаем - на всем обман. Обман и обман. Постное масло в лавке горькое, тухлое, у людей деготь лучше. Да нешто, скажи на милость, нельзя хорошим маслом торговать?».
Но богатство приобретается не только обманом, но и преступлением. Аксинья, невестка Цыбукина, - женщина, похожая на змею, для которой чувства жалости, честности, человеколюбия просто не существовали, чтобы получить землю, обварила кипятком мальчика, которому старик ее завещал. Преступление проходит совершенно безнаказанно, никто не боится возмездия и не скрывает следов. По убитому служат панихиду, устраивают поминки. Аксинья, убившая ребенка, по случаю похорон пудрится и одевается во все новое. На этой земле Аксинья построила кирпичный завод, войдя в долю с местными фабрикантами Хрымиными. «Кирпичный завод работает хорошо, оттого что требуют кирпич на железную дорогу, цена его дошла до 24 руб. за тысячу; бабы и девки возят на станцию кирпич и нагружают вагоны и получают за это по четвертаку в день». «Аксинью боятся и дома, и в селе, и на заводе». «В селе говорят, что она забрала большую силу».
Наблюдая процесс «обуржуазивания» русской жизни, Чехов прежде всего выделял тему моральной значимости богатства. В его «купеческих», «индустриальных», «крестьянских» повестях («Три года», «Случай из практики», «Бабье царство», «Мужики», «В овраге») рассказывается о бессмыслице этой наживы, о губительной силе собственности. Причем нередко эта губительная сила обращается и против самих собственников - сошел с ума деревенский богатей старик Цыбукин, томительной жизнью живет наследница подмосковных заводов Ляликова, сын Цыбукина Анисим, стремясь разбогатеть, стал фальшивомонетчиком и кончил дни свои в тюрьме.
Бесчеловечность законов буржуазного мира, правительственная политика, открыто обратившаяся «вспять», весь строй русской жизни вызывали неприятие и осуждение со стороны прогрессивных современников.
Реалистически-обличительная тенденция в произведениях крупнейших мастеров достигала грозовой силы. Необычайно возросла популярность сатиры, и особенно произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина. «В течение 80-х годов, - писал современник, - популярность Салтыкова достигла апогея. Его сатиры читались с упоением. Каждая книжка журнала с его новым „Письмом к тетеньке“ составляла своего рода событие… Именно в 80-е годы Салтыков, все расширяя диапазон своей сатиры, превратился из сатирика, отмечающего отдельные темные стороны текущей общественной жизни, в настоящего библейского пророка, силою гневного и властного вдохновения сдергивающего покров с самых глубоких язв современности. Люди моего поколения отлично помнят, конечно, какое громовое впечатление произвела в свое время та сатира Салтыкова, в которой он представил распространившееся в обществе глумление над передовыми идеалами освободительной эпохи в образе „торжествующей свиньи“, порешившей „сожрать солнце“… или предсмертный его очерк „Забытые слова“, в котором сатирик бросает в лицо своим современникам негодующее воспоминание о том, что кроме слов „нажива“ и „благополучие“ существуют в лексиконе человеческой речи еще и такие слова, как „Отечество“ и „Человечество“».
Так определяющей задачей передовой русской литературы в конце XIX века становится активная борьба за утрачиваемые нравственные ценности.
Это стремление определило и духовные поиски крупнейших писателей.
В 80–90-е годы русская литература, как и вся культурная жизнь России, развивались под знаком все возрастающего влияния Л. Н. Толстого. Гениальный писатель, открывший новую эпоху в национальном художественном творчестве, неустанно ищущий философ, создавший собственное учение и имевший последователей, он отличался необыкновенной жизненной активностью. Во время Крымской войны он становится ее участником, затем пишет севастопольские и кавказские рассказы. В конце 50-х - начале 60-х годов в период подъема общественного движения и возбуждения крестьянского вопроса он бросает литературу, открывает школу для крестьянских детей в Ясной Поляне, пишет «Азбуку», разрабатывает свои педагогические принципы и методику начального образования. Таким оставался он и до конца жизни.
С середины 70-х годов, еще во время работы над «Анной Карениной», Толстой, подобно герою этого романа Левину, начинает мучительно, «до головных болей», размышлять над философско-религиозными проблемами, пытается постичь смысл человеческого бытия.
Осенью 1879 года он пишет «Исповедь», в которой излагает, начиная с детства и до последнего времени, свое отношение к религии, раскрывает свои мучительные сомнения в истинности господствующей церковности, в которой обнаружил и ложное, и истинное начало. «Откуда взялась ложь и откуда взялась истина? И ложь, и истина переданы тем, что называется церковью». Эта мысль подтолкнула Толстого к пересмотру «священных преданий и писаний», к анализу всей богословской догматики православной церкви. С марта 1880 года он работал над обширным трудом «Соединение, перевод и исследование четырех евангелий». Исследование этих текстов привело писателя к мысли о том, что во вселенной господствует высшая воля, и цель человеческого существования должна состоять в том, чтобы согласовать с ней свои помыслы и действия. «Я вернулся к вере в ту волю, - писал Толстой в „Исповеди“, - которая произвела меня; я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, то есть жить согласно с этой волей».
«Исповедь» подвела итоги исканий и формирования мировоззрения писателя. Поиск истинной веры привел его к решительному отторжению существующей церкви. Толстой пришел к заключению, что церковь создана не Богом, она - «сама себя учредившая иерархия, и в противность всем другим считающая себя святою и непогрешимою». И далее: «Церковь, все это слово, есть название обмана, посредством которого одни люди хотят властвовать над другими». Современная церковь исказила учение Христа, изъяв из него нравственные заповеди.
Признавая учение Христа на словах, церковь в то же время санкционирует общественное неравенство, поддерживает государственную власть, основанную на насилии, войнах.
Еще в 50-х годах у Толстого возникло убеждение в необходимости новой религии. В 1855 году он записывал в дневнике: «Вчера разговор о Божественном и вере навел меня на великую и громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта - основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа». Это «соответствие» новой религии развитию человечества заключалось, по мысли Толстого, в том, что Божественная воля совпадает с законами природы, естественностью человеческой жизни, определяет ее нравственный смысл. На вопрос, как жить и как согласовать человеческое существование с высокими этическими канонами «новой» веры, писатель попытался ответить в большой работе, озаглавленной «О жизни». Этот огромный философский трактат (в 2237 листов текста) посвящен размышлениям о жизни и смерти. Эти вопросы всегда занимали писателя и особенно захватили его после тяжелой болезни, перенесенной в 1886 году. «Хочу жить для себя, - писал он, - и хочу быть разумным, а жить для себя неразумно». Идея нравственного усовершенствования человека принимается им как доминирующая в его этически-религиозном учении. Жить духовной, истинной жизнью значит отрекаться от праздного, исполненного «утех» существования, трудиться, смиряться, быть милосердным, верить в добро и делать добро. Учение о нравственном самоусовершенствовании основывается на пяти заповедях Христа из Нагорной проповеди (Евангелие от Матфея). Важнейшей для учения о самоусовершенствовании стала заповедь о непротивлении злу насилием.
Исходя из этих вечных нравственных истин, Толстой оценивал современную ему жизнь - государственную власть, церковь, семью. Как человек и мыслитель, он был исполнен глубокого сочувствия к людям угнетенным, страдающим, людям работающим и нищенски живущим. Боль за них рождала чувство негодующего протеста против всяческих несправедливостей, насилия, произвола; и в конечном итоге - против всего строя жизни, при котором произвол и несправедливость являются нормой. В ряде статей Толстой выступает против всех институтов насилия: милитаризма («Карфаген должен быть разрушен»), буржуазных отношений («Что же нам делать?»), официальной церкви («В чем моя вера?»). Философско-этический поиск привел мыслителя к решению социальных вопросов. В трактате «Что же нам делать?», название которого как бы перекликается с названием романа Чернышевского, Толстой выступает против устоев капиталистического общества, противоречащих естественному развитию человека. Корень зла он видит в растлевающем влиянии «золотого тельца», идеологии чистогана, «имеющих свойство порабощать людей». Однако противодействовать капитализации общества можно, по его убеждению, если каждый человек будет зарабатывать себе на жизнь личным трудом и жить «по-божьи».
При всем глубоком гуманизме учение Толстого носило утопический и противоречивый характер. Осознавая бедственное положение народа и искренне сочувствуя ему, возмущаясь роскошью и богатством привилегированного общества, великий художник не видел реального пути преодоления социального неравенства. О его мучительных сомнениях и исканиях свидетельствовали и дневниковые записи того времени: «Неужели люди, теперь живущие на шее других, не поймут сами, что этого не должно и не следует». Позднее, посетив имение сына, он опять пишет о потрясавшей его картине рабства народа: «И здесь, и у Ильиши… и у него те же люди, обращенные в рабов, работают на него. Как разбить эти оковы».
По мере оформления учения противоречия между идеями Толстого и его семейной и личной жизнью становились все сильнее, «…со мной случился переворот, - писал он, - который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга - богатых, ученых - не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл… Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым, настоящим делом». Бесстрашно честный писатель решился на разрыв с тем привилегированным классом, к которому он принадлежал по рождению и всей предыдущей жизни.
Активная общественная позиция и страстные поиски разрешения общечеловеческих и собственно российских проблем определили его значение в духовной жизни страны, его влияние на умы и души современников. А. А. Кизеветтер, вспоминая об этом, особо подчеркнул обличительный характер выступлений великого художника: «Толстой проповедовал философию непротивления злу, а в основе своей натуры он был прирожденным бунтарем-протестантом. Восстать против господствующего течения - вот в чем состояло всегда непосредственное влечение его души, и восстать бурно, гневно и стремительно, чтобы все вздрогнули и почуяли, какая неудержимая сила протестующего напора надвинулась на них. Вот эта-то бунтующая сила вызывала общее трепетное восхищение от выступлений Льва Толстого - учительных и обличительных… Толстой был львом не только по имени…».
Стремясь распространить свои идеи особенно в крестьянской среде. Толстой пишет в эти годы ряд «народных рассказов» - «Чем люди живы», «Свечка», «Много ли человеку земли нужно», в которых в доступной малограмотным читателям форме излагал свое учение.
В начале 1886 года Толстой закончил одно из своих наиболее выдающихся произведений - повесть «Смерть Ивана Ильича». Поскольку работа над нею велась параллельно с написанием трактата «Что ж нам делать?», то в повесть вошли многие мысли, которые владели автором в это время. Вопреки названию, повесть была не о смерти, а о неверно прожитой жизни, о связях человека с миром, которые одни способны придать смысл существованию и внушить веру в добро. Эгоистическое поведение образует пропасть между миром и индивидуумом, связь с миром возникает лишь путем служения людям самоотречением и любовью.
В основе сюжета повести лежал реальный факт тяжелой болезни и смерти известного писателю бывшего члена тульского суда Ивана Ильича Мечникова (брата знаменитого ученого Ильи Ильича Мечникова). Единичному явлению писатель придал широкий обобщающий характер, раскрыв типичные черты жизни и психологии представителя привилегированного класса. «Прошедшая жизнь Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная», - замечает автор. Трагедия Ивана Ильича именно в этой обыкновенности его жизненного пути, типичного для людей его круга. Как и все его знакомые, Иван Ильич стремился добиться в жизни видного положения на службе и в обществе, приобрести состояние и, в конце концов, мог считаться преуспевающим человеком, полезным членом общества, почтенным семьянином. Но, заболев тяжелой, неизлечимой болезнью, лежа в одиночестве, он начал год за годом вспоминать прошедшую жизнь и сделал страшное открытие, что прошла она бесполезно и бесплодно, без любви и дружбы, что его отношения с родными и знакомыми холодны и лицемерны. И ему стало страшно умирать, «доктор говорил, что страдания его физические ужасны, и это была правда, но ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было его главное мечение». Эта мысль о «неправильно» проживаемых жизнях, лжи и обмане в человеческих отношениях, всепоглощающем эгоизме людей этого круга возникает и на тех страницах повести, где изображены похороны Ивана Ильича и показано - очень лаконично, сдержанно, а потому особенно впечатляюще, - как лгут у гроба и те, кто принимает соболезнования, и те, кто их выражает. Разобщенность людей в современном автору обществе, их эгоизм особенно рельефно и страшно выглядят перед лицом смерти. В этом мире продвижение по службе или даже игра в карты «важнее, чем смерть, вообще якобы не присущая им».
Толстой раскрывает несостоятельность эгоистического существования, которое влечет равнодушие и жестокость по отношению к людям, а в результате одиночество и пустоту. Повесть говорит о важности понимания смысла жизни, значении общественно-полезной деятельности. «Смерть Ивана Ильича» произвела сильное впечатление на читателей. Первый и восторженный отзыв Л. Н. Толстой получил от В. В. Стасова, который писал: «Ни у одного народа, нигде на свете нет такого гениального произведения. Все мало, все мелко, все слабо и бледно в сравнении с этими 70-ю страницами. И я сказал себе: „Вот, наконец, настоящее искусство, правда и жизнь настоящая“».
Огромное впечатление произведение Толстого произвело и на П. И. Чайковского, назвавшего его автора «величайшим из когда-либо бывших художников». Наиболее примечательно свидетельство Ромена Роллана по поводу «Смерти Ивана Ильича». По его словам, повесть явилась «одним из тех произведений русской литературы, которые всего более взволновали французских читателей». «Я сам был свидетелем того, - пишет Роллан, - с каким огромным волнением говорили о „Смерти Ивана Ильича“ мои земляки - буржуа из Нивернэ, которые до тех пор вовсе не интересовались искусством и почти ничего не читали». Повесть поражала читателей не только беспощадным реализмом, с которым медицински точно были описаны физические страдания героя, но и глубочайшим проникновением в психологию человека, изображением сложного процесса эволюции мировоззрения под влиянием внешних обстоятельств.
Новые возможности реализма раскрывались в творчестве одного из «властителей дум» молодого поколения 80-х годов Всеволода Михайловича Гаршина (1855–1888). В его правдивой прозе использовались романтические и символистические приемы. Его военные повести, затем «Красный цветок» имели огромный успех и принесли автору широкую известность. Характерное для его творчества, по словам В. Г. Короленко, «трепетание чуткой совести и мысли» способствовало сближению писателя с наиболее прогрессивными современниками. Дружеские связи соединяли Гаршина с такими писателями, как Чехов, Короленко, Надсон, Глеб Успенский. Глубоко гуманная и демократическая направленность его творчества органически сочеталась с личными качествами писателя. Все знавшие писателя, начиная с родных и близких друзей и кончая случайными знакомыми, отмечали его удивительное обаяние, доброту, благородство. Хорошо знавший Гаршина публицист и писатель Н. Н. Златовратский так отзывался о нем: «Известно, какой это был мягкий, нежный, необыкновенно деликатный и застенчивый человек». «Сразу чувствовалось, - вспоминал другой современник, - что он задушевный, очень добрый человек». Литератор П. В. Быков писал: «Помню его темно-синие необычайно проникновенные и кроткие глаза и всю его прекрасную внешность, находившуюся в редкой гармонии с его духовным обликом… он, как никто из писателей, был постоянным защитником „униженных и оскорбленных“, выступая их рыцарем, „рыцарем без страха и упрека“, с оружием в руках, которым его наделила безграничная отзывчивость к чужому горю».
Отзывчивость и доброта Гаршина были действенными. Малообеспеченный, нездоровый писатель постоянно помогал другим. Горячее участие он принял в судьбе тяжело больного поэта Надсона, приложив массу усилий на сбор средств для лечения его. Много времени и сил уделял Гаршин работе в обществе оказания пособий нуждающимся литераторам и ученым.
Эта «отзывчивость к чуждому горю» побудила тогда уже известного писателя при известии о готовящейся казни народовольца Млодецкого, совершившего 20 февраля 1880 года покушение на возглавлявшего Верховную распорядительную комиссию М. Т. Лорис-Меликова, прорваться к всесильному диктатору и убеждать его отменить смертную казнь. Последовавшая, несмотря на обещание Лорис-Меликова пересмотреть дело Млодецкого, казнь обвиняемого, по словам Н. С. Русанова, «ужасно подействовала» на Гаршина.
Считая человека и его жизнь величайшей ценностью, Гаршин страстно протестовал против всего, что мучит и губит людей. Тема жизни и смерти - в философском осмыслении - доминировала в большинстве его произведений. Первыми в этом плане стали повести и рассказы, навеянные военными воспоминаниями. Общественный подъем, сочувствие к братьям-славянам, вызванные в России турецкими зверствами в Болгарии и последующей русско-турецкой войной, увлекли и молодого Гаршина, тогда студента Горного института, и побудили его в качестве добровольца отправиться в действующую армию. Военная действительность потрясла юношу - неразбериха в обозном хозяйстве, длительные марши по бездорожью без провианта и отдыха, плохое вооружение, просчеты командования приводили к большим и напрасным потерям. Страдания обыкновенного человека, втянутого в эту подчас бессмысленную бойню, позднее изображены писателем в рассказах «Четыре дня», «Трус», «Офицер и денщик», «Из воспоминаний рядового Иванова».
В рассказе «Четыре дня» тяжелораненый вольноопределяющийся Иванов остался на покинутом поле боя среди трупов. Четыре дня, которые он провел там, были кошмарны: «И я лежу под этим страшным солнцем, и нет у меня глотка воды, чтобы освежить воспаленное горло, и труп заражает меня. Мириады червей падают из него… Когда он будет съеден и от него останутся одни кости и мундир, тогда - моя очередь!».
В сказке-аллегории «Attalea princeps» рассказывалось о прекрасной пальме, которую привезли со знойной родины и заключили в теплицу. Пальма не может привыкнуть к своей стеклянной тюрьме, она тоскует по южному солнцу. В конце концов, она решается освободиться и пробивает верхнюю раму: «Была глухая осень… Моросил мелкий дождик пополам со снегом, ветер низко гнал серые клочковатые тучи… И Attalea princeps поняла, что для нее все кончено. Она застывала… Только-то, - думала она. - И это все, из-за чего я томилась и страдала так долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшей целью?».
Рассказ этот был неоднозначно воспринят современниками. Салтыков-Щедрин отказался поместить его в «Отечественных записках», считая, что он выразил отрицание революционного подвига. Позднее редакция журнала «Дело» также увидела в сказке отрицание современного революционного движения. Опубликована она была на страницах «Русского богатства».
Сюжет сказки представлял сочетание реального события с вымыслом. По признанию автора, ему стало известно о том, что в петербургском ботаническом саду была срублена пальма, сломавшая крышу теплицы. Гаршин вообще увлекался ботаникой и неоднократно посещал ботанический сад. Наряду с этим типичный для романтической литературы образ пальмы олицетворял представление о гордой красоте. Близок к этому и образ романтического героя - прекрасного, вольнолюбивого человека, - который готов обрести свободу даже ценой своей гибели. Такие же стремления приписывал писатель и пальме, заявившей окружавшим ее растениям:
«Я умру или освобожусь». Сочетание конкретного факта и романтическо-фантастической формы повествования становится характерной особенностью художественной манеры Гаршина.
Противопоставление жизни и смерти - убитого и раненого - в повести почти исчезает. Так страшны мучения, что живой завидует мертвому. И возникает мысль: зачем эти мучения, зачем войны, если они не меняют положение тысяч простых людей, не нарушают социальной несправедливости?
Рассказ «Четыре дня» поразил современников прежде всего лишенной конфетной красивости, глубоко правдивой картиной войны. Как баталист, Гаршин, не нагнетая нарочитых ужасов и давая только реальное описание, создал обобщенный, необычайно впечатляющий образ войны, в чем-то близкий «Апофеозу войны» Верещагина. Привлекал читателей и художественный стиль произведения. Литератор Павловский писал о впечатлении от рассказа: «Главная доля была в красоте формы и задушевной искренности рассказа».
Продолжая военную тему в последующих рассказах, Гаршин подчеркивает социальный антагонизм солдат и офицеров, усугубляющий тяжелое положение первых. Так, в рассказе «Из воспоминаний рядового Иванова» фигурирует жестокий капитан Венцель, презирающий солдат и избивающий отстающих на марше: «Венцель схватил свою саблю и начал наносить ее железными ножнами удар за ударом по измученным ранцем и ружьем плечам несчастного». Да и другие офицеры полка не чуждаются рукоприкладства, считает его даже необходимым для воздействия на солдатскую массу.
Тема «Люди и война» глубоко волновала писателя. В 1879 году он задумал написание хроники на эту тему, но замысел был реализован только двумя рассказами - «Денщик и офицер» и «Из воспоминаний рядового Иванова», последующая болезнь Гаршина воспрепятствовала его завершению.
В 1883 году писатель завершил лучшее свое произведение - рассказ «Красный цветок», который стал как бы символом его жизни и творчества. Так же как в сказке «Attalea princeps», здесь соединены два плана - реальный и фантастический. В саду лечебницы для душевнобольных, куда помещен герой рассказа, растет необычайно яркий алый мак. В воображении больного человека цветок становится олицетворением вселенского зла. «При первом взгляде сквозь стеклянную дверь алые лепестки привлекли его внимание, и ему показалось, что с этой минуты он вполне постиг, что именно он должен совершить на земле. В этот яркий красный цветок собралось все зло мира. Он знал, что из мака делают опиум; может быть, эта мысль, разрастаясь и принимая чудовищные формы, заставила его создать страшный фантастический призрак». И несчастный задается целью сорвать и уничтожить цветок, при этом он прилагает нечеловеческие усилия, чтобы вырваться из больничной палаты, разогнуть железные прутья, закрывающие окно. Но сорвать и уничтожить цветок ему кажется недостаточным: «…нужно было не дать ему при издыхании излить все свое зло на мир. Потому-то он и спрятал его у себя на груди. Он надеялся, что к утру цветок потеряет всю свою силу. Его зло перейдет в его грудь, в его душу и там будет побеждено или победит - тогда он сам погибнет, но умрет как честный боец и как первый боец человечества, потому что до сих пор никто не осмеливался бороться разом со всем злом мира».
Так поступок душевнобольного приобретает в рассказе характер героической битвы с мировым злом. Короленко по этому поводу писал: «С грустной улыбкой автор говорит нам: это был только красный цветок, простой цветок красного мака. Значит - иллюзия. Но около этой иллюзии развернулась в страшно сгущенном виде вся душевная драма самоотречения и героизма, в которой так ярко проявляется высшая красота человеческого духа».
«Attalea princeps» и «Красный цветок» свидетельствовали о многоплановости творчества Гаршина. Наряду с удивительной достоверностью многих рассказов («Четыре дня», «Из воспоминаний рядового Иванова» и др.) нравственно-этические обобщения его творчества придают ему характер философского реализма.
«Красный цветок» увеличил популярность Гаршина и повысил авторитет его в литературной среде. Как вспоминал один из его друзей: «Его окружало всеобщее уважение, он возбуждал единодушную любовь у всех, кто видел его однажды». Тургенев в одном из писем назвал Гаршина своим преемником. «Его любил Лев Толстой и считал самым выдающимся писателем нового поколения… сверстники и товарищи-писатели любили его как брата; несмотря на свой громадный успех, он ни в ком не возбуждал чувства зависти, у него не было ни одного врага, да и странно было бы представить себе врага Гаршина, и его талант признавался в самых противоположных лагерях нашей печати».
В то же время жизнь писателя осложнялась, прежде всего, материальными трудностями. Литературных гонораров не хватало на то, чтобы обеспечить себе и жене сносное существование в Петербурге. Гаршин вынужден был совмещать литературную работу со службою в управлении железных дорог, «…заниматься писанием, творчеством приходилось Всеволоду Михайловичу по утрам, до ухода на службу. Какая это была работа, когда ежеминутно смотришь на часы; дабы не опоздать к занятиям!.. вот-вот охватывали его вдохновение, творческий жар; но тут все надо было бросать, насильственно отрываться от письменного стола, спешить с туалетом и поскорее бежать на службу». Естественно, что писать становилось все труднее, особенно при его скромности и требовательности к себе. Кроме того, писателя чрезвычайно угнетали политические репрессии в отношении интеллигенции. В 1884 году были закрыты «Отечественные записки», затем арестованы Протопов и друг Гаршина - Эртель. Кроме того, как отмечали знавшие его, «житейская грязь, людское недоброжелательство, зависть, эгоизм, разнузданность страстей поражали его на каждом шагу…». Гаршин мучительно воспринимал социальную несправедливость, нравственные пороки современного ему общества и собственное бессилье в борьбе с общественным злом.
В посмертной статье о Гаршине А. Леман писал: «Нежное, чуткое сердце, пламенная чистая душа, глубокое понимание ужасов жизни, вера в человека и беспрерывное каждодневное оскорбление этой веры, желание очеловечить людей и сознание слабости своих сил… были для него источником постоянных обильных мучительных терзаний». Все это усугубило тяжелую душевную болезнь писателя, приведшую его к трагической гибели.
В творчестве Гаршина все частные проблемы демократической литературы того времени были сведены к одной общей проблеме - социального зла, страстный, романтический протест против которого составлял нерв его произведений.
Близким Гаршину по мироощущению писателем был поэт С. Я. Надсон. Жизнь его была короткой и несчастливой. Родившись в 1862 году в Петербурге в семье незначительного чиновника, он в раннем детстве потерял отца, оставившего семью без всяких средств. После смерти матери родственники определили Надсона в Павловское военное училище, но болезненный, слабый юноша мало подходил для военной карьеры, кроме того, очень рано начав писать стихи, с 1880 года стал печататься и увлекся творчеством. В 1884 году, выйдя в отставку, Надсон занялся литературной деятельностью. Через год, когда вышел его первый сборник стихов, он уже получил от Академии наук Пушкинскую премию. Почти сразу поэт приобрел большую популярность. А. А. Кизеветтер, вспоминая литературную жизнь начала 60-х годов, писал: «В стихотворной поэзии царил Надсон… Поэзия Надсона была проникнута призывами к народолюбию, к равноправию и братству людей, к свободе и признанию человеческой личности. Восьмидесятники зачитывались Надсоном…».
Надсон был поэтом своего поколения, его мечты, надежды, беды эмоционально отражались в его творчестве. Обращаясь к современникам поэт заявлял:
Как волны рек, в седое море
Сойдясь, сплотились и слились,
Так ваша боль и ваше горе
В моей душе отозвались.
Так же как у Гаршина, герой поэзии Надсона ненавидит насилие, страстно мечтает о времени, когда не будет угнетения человека человеком, когда жизнь для всех станет прекрасной. В одном из лучших своих стихотворений поэт обращался к современнику со словами надежды:
Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был, не падай душой,
Пусть неправда и зло полностью царят
Над омытой слезами землей,
Пусть разбит и поруган святой идеал
и струится невинная кровь -
Верь: настанет пора и погибнет Ваал,
И вернется на землю любовь!
……………………………………………
И не будет на свете ни слез, ни вражды,
Ни бескрестных могил, ни рабов,
Ни нужды, беспросветной мертвящей нужды;
Ни меча, ни позорных столбов!..
Ненависть к насилию, мечты о коренном изменении своей страны и мира вызывали у поэта глубокое сочувствие к смелым борцам против произвола властей. Широко распространенное в русском обществе конца 70-х годов сочувствие к народникам разделял и Надсон.
В стихотворении «Мрачна моя тюрьма» поэт причислял себя к стану борцов:
…Когда - оба
Клялись мы - как орлы могучи и сильны -
Врагам земли родной не уступать до гроба
Священной вольности родимой стороны,
Я песнею владел, - и каждый стон народа
В лицо врагов его с проклятьями бросал,
А он владел мечом и с возгласом: «Свобода»
За каждую слезу ударом отомщал…
Но нам не удалось рассеять ночи тычу…
Поражение народничества и последующие репрессии вызвали у Надсона, как и у многих его интеллигентных сверстников, чувства горького разочарования и неверия в возможность преобразований.
Сколько праведной крови погибших бойцов,
Столько светлых созданий искусства,
Столько подвигов мысли, и мук, и трудов -
И итог этих трудных рабочих веков -
Пир животного, сытого чувства!
Поэт-человек 80-х годов испытывал мучительные сомнения, колебания, негодуя при виде зла и сознавая свое бессилие:
Не вини меня, друг мой - я сын наших дней,
Сын раздумья, тревог и сомнений…
Пессимистический характер поэзии Надсона был вызван еще и личными мотивами - бедность, которая преследовала поэта с детства, стала постоянной спутницей его жизни, все ухудшающееся здоровье вызывало жалобы на судьбу, чувство обреченности, неверие в собственные силы и силы людей его поколения:
автора Петелин Виктор Васильевич Из книги История русской литературы XX века. Том I. 1890-е годы – 1953 год [В авторской редакции] автора Петелин Виктор Васильевич Из книги От Ленина до Андропова. История СССР в вопросах и ответах автора Вяземский Юрий ПавловичГлава 10 Русская литература XX века
Из книги История России от древнейших времен до начала XX века автора Фроянов Игорь Яковлевич Из книги Древнерусская литература. Литература XVIII века автора Пруцков Н ИЗаключение. Литературные традиции XVIII столетия и русская литература XIX века 1 История новой русской литературы традиционно разделяется на три эпохи, каждая из которых характеризуется чисто временным показателем - «Литература XVIII века», «Литература XIX века» и
Из книги История Грузии (с древнейших времен до наших дней) автора Вачнадзе МерабГлава XVIII Грузия во второй половине 20-х годов XX века и до начала 40-х годов этого века §1. Социальная и экономическая система В период утверждения советского оккупационного режима и его трансформации (первая половина 20-х годов XX века) отмечается упадок экономики и
автора Яковкина Наталья ИвановнаГлава третья РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX
Из книги История русской культуры. XIX век автора Яковкина Наталья Ивановна§ 1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 60–70-х ГОДОВ Характерной особенностью русской литературы второй половины XIX века явилась демократизация художественного сознания, чему способствовали как характер общественного движения, так и появление в общественно-политической и культурной
автора Петелин Виктор ВасильевичЧасть первая Русская литература 50-х годов. Об искренности в литературе После смерти Сталина начались перемены в политике и культуре, в литературе и искусстве. А в начале 1953 года русская литература продолжала своё существование в острой борьбе между различными
Из книги История русской литературы второй половины XX века. Том II. 1953–1993. В авторской редакции автора Петелин Виктор ВасильевичЧасть третья Русская литература 60-х годов. Правда и
Из книги История русской литературы второй половины XX века. Том II. 1953–1993. В авторской редакции автора Петелин Виктор ВасильевичЧасть четвёртая Русская литература 70-х годов. Русский национальный
Из книги История русской литературы второй половины XX века. Том II. 1953–1993. В авторской редакции автора Петелин Виктор ВасильевичЧасть седьмая Русская Литература 80-Х Годов. Законная свобода духа Давно известно, что художественные произведения читаются и запоминаются не из-за тех или иных острых, злободневных проблем, поставленных в них, а благодаря созданным характерам. Удастся ли писателю найти
Последние десятилетия XIX века были обозначены серьезными переменами в общественной и литературной жизни России.
Утверждение капитализма в экономике повлекло изменения в социальной, культурной, духовной сферах русской жизни. После либеральных реформ 60-70-х годов во внутренней политике восторжествовал консервативный курс.
В общественной мысли изжили себя просветительские иллюзии, потерпели крах идеи народничества, утопизм общинного социализма. Но в то же время вызревали новые интеллектуальные силы, шла упорная, часто подспудная работа коллективной мысли.
На смену революционным призывам стремительной коренной ломки устаревших государственных институтов пришли идеи постепенного преобразования страны. Молодежь "манила к себе легальная общественная деятельность, но на этой почве мы все же готовили себя к борьбе за свои идеалы, терпеливой, настойчивой, неуклонной", Кизеветтер А.А.На рубеже столетий. Воспоминания. 1881-1914. М., 1997. С. 126. - писал современник. Не были утрачены прогрессивные и гуманные идеи, которыми жила русская интеллигенция предшествующих лет, однако разочарование в прежних политических идеалах вызвало спад общественного движения, измельчание общественных интересов, появление упаднических настроений.
Определились новые духовные искания интеллигенции. Н. А. Бердяев писал: "Были признаны права религии, философии, искусства независимо от социального утилитаризма, моральной жизни, то есть права духа, которые отрицались русским нигилизмом, революционным народничеством ианархизмом...". Бердяев Н.А.Русская литература XIX века и ее пророчества // Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 70.
Изменения коснулись и литературы. Ушли из жизни в начале 80-х годов Тургенев и Достоевский, отошел от художественного творчества Гончаров. На литературном горизонте появилась новая плеяда молодых мастеров слова - Гаршин, Короленко, Чехов.
В литературном процессе отразилось напряженное развитие общественной мысли. Вопросы общественного и государственного устройства, быта и нравов, национальной истории - по сути, вся русская жизнь была подвергнута аналитическому освещению. При этом был обследован огромный материал, поставлены великие, определяющие дальнейший прогресс страны проблемы. Но вместе с тем русская литература наряду с так называемыми "проклятыми вопросами" отечественной действительности приходит к постановке и общечеловеческих нравственных и философских проблем.
Реалистическое направление оставалось господствующим, достигнув выдающихся успехов в предшествующий период. Тем не менее, с начала 80-х годов ряд крупных мастеров слова обнаруживают стремления к поиску новых выразительных средств. В переписке, статьях Л. Толстого, В. Короленко, А. Чехова, позднее М. Горького постоянно возникали вопросы о дальнейших судьбах реализма. Процесс развития и трансформации художественного реализма носил общеевропейский характер. Об этом писали Ромен Роллан, Анатоль Франс.
Развитие капиталистических отношений обозначилось не только ростом городов, строительством железных дорог, фабрик и заводов, но и изменениями в психологии людей. Новые условия жизни прождали новые понятия, меняли человеческие чувства, восприятия и духовные потребности. Актуальную остроту обретал вопрос, заданный Чеховым в одном из писем: "Для кого и как писать? ". В это же время Толстой неоднократно признавался в письмах и дневниках, что ему совестно изображать вымышленных героев.
О дегероизации литературного персонажа писал Короленко: "Мы теперь уже изверились в героях, которые (как мифический Атлант - небо) двигали на плечах артели (в 60-х годах) и "общину" (в 70-х). Тогда мы все искали героев, и господа Омулевские и Засодимские нам этих героев давали. К сожалению, герои все оказались... не настоящие, головиные. Теперь поэтому мы, прежде всего, ищем не героя, а настоящего человека, не подвига, а душевного движения, хотя и не похвального, но непосредственного".
Творческие искания Толстого, Чехова, Короленко были глубоко индивидуальны. Но их объединяла общая направленность - в судьбах литературных персонажей усматривается отражение судеб общества, личная судьба становится поводом для постановки общечеловеческих нравственных проблем, по-новому осуществляется связь объективного повествования и субъективного авторского видения обстоятельств повествования. Поиски новых средств выразительности приводили в некоторых случаях к склонности употреблять символы, иносказания, аллегорические концовки повествования, введение в реалистический текст фактических или философских сюжетов.
В то же время попытки художественного осмысления действительности привели часть писателей к натуралистическому ее воссозданию. Целью этого направления стало непосредственное воспроизведение возможно большего количества современных жизненных фактов и явлений. Наиболее показательным в этом отношении являлось творчество П.Д. Боборыкина - фантастически плодовитого писателя (автора 20 романов, 50 повестей и рассказов, 20 драматических произведений и огромного количества статей), романы которого содержали массу эпизодов и действующих лиц. Целью писателя было "схватить и изобразить настоящий момент". Но при этом многочисленным произведениям Бобрыкина не хватает глубины, они содержат сырые, необработанные жизненные зарисовки, большое количество ненужных для сюжета персонажей.
Механическое копирование жизни и угождение вкусам определенной группы читателей нередко приводили к апологетике героев, полностью принявших устои современной социальной жизни, буржуазии. Чехов в письме Суворину писал о "бодром" таланте И.Н. Потапенко и о представителе мещанской беллетристики К.С. Баранцевиче: "Это буржуазный писатель, пишущий для чистой публики, ездящей в III классе. Для этой публики Толстой и Тургенев слишком роскошны, аристократичны, немножко чужды и неудобоваримы... Станьте на ее точку зрения, вообразите серый, скучный двор, интеллигентных дам, похожих на кухарок, запах керосинки, скудость интересов и вкусов - и вы поймете Баранцевича и его читателей. Он не колоритен. Он фальшив, потому что безнравственные писатели не могут быть не фальшивыми". Чехов А.П.Полн. собр. соч. и писем. В 20 т. М., 1949. Т. 16.С.160.
Таким образом, осуждая приукрашенное, фотографически подобное, но не истинное воспроизведение современной жизни, Чехов утверждал необходимость нравственной идеи в художественных произведениях. Это же требование было творческим стимулом крупнейших писателей-реалистов конца XIX века.
Отечественное бытие, особенно провинциальное с его особенностями и пороками, стало предметом пристального внимания одного из наиболее социальных писателей тех лет - В.Г. Короленко.
90-х годов, принадлежащие таким писательницам, как Татьяна Толстая (сб. «Река Оккервиль»), Людмила Улицкая (роман «Медея и ее дети»), Людмила Петрушевская, Марина Палей (сб. «Месторождение ветра»), Марина Вишневецкая (сб. «Вышел месяц из тумана»), Ольга Славникова (роман «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки»), Ирина Полянская (роман «Прохождение тени») и ряд других, содержат в себе высокую энергию художественного творчества, обогащающего большую литературу. Именно потому, что это творчество на уровне эстетических открытий, что новации в их произведениях означают создание различных индивидуальных художественных миров, они не могут рассматриваться по ведомству «женская », такого рода литературы просто не существует. (Не нужно путать с другим явлением: «дамская литература». Такое есть).
Жанровая пестрота и размытость границ, недостаточная эстетическая прописанность новых жанровых видов, подвидов также не позволяют пока обнаружить типологические закономерности в жанровой эволюции литературы конца века.
Еще один из подходов к поиску типологии литературного процесса осуществляется за счет выявления общих черт на уровне метода или тематического, стилевого сходства. В наш учебник включены главы: «Русский » и «Массовая литература конца XX века». Давая представление об общих чертах, обнаруживаемых в произведениях, относящихся к данным явлениям литературного процесса, сам материал оказывается достаточно спорным и не продвигает нас по пути выявления столь же обоснованно доказуемых иных литературных общностей, а тексты, взятые для иллюстрации модели, рвут подчас контуры самих моделей. Что же касается идеи, бытующей на страницах критических статей, о том, что массовая «низкая» литература не только не противоречит элитарной «высокой» литературе, но в какой-то мере ее оплодотворяет, то все дело как раз и заключается в этой мере, и вряд ли следует бурно радоваться идее конвергенции массовой и элитарной литературы. Материал данных глав учебника открыт к размышлениям и предоставляет нашим читателям возможность сделать собственные выводы о роли вышеназванных тенденций в современном литературном процессе. Очень трудно отказаться от великих «заблуждений» русской классики, заинтересованно сформулированных нашей современницей Татьяной Толстой: «Литература - это разговор с ангелами», имея в виду напряжение души, способное быть вызванным лишь подлинной литературой.
Находясь на распутье в выборе типологических опор для построения структуры постоянно ускользающего из наших рук, с таким трудом поддающегося системному описанию литературного процесса текущего десятилетия, мы не можем обойти серьезным вниманием судьбу и роль реализма на грани веков. Недооценить важность и ответственность роли, отведенной русскому реализму на протяжении всего XX века, невозможно. Имена И. Бунина, М. Горького, Л. Андреева, А. Куприна, М. Шолохова, Л. Леонова, А. Толстого, В. Некрасова, В. Пановой и др. составляют одну из важнейших доминант в литературе русского XX века.
Девяностые годы подвергли реализм серьезному испытанию, посягнув на его господствующие позиции и абсолютный авторитет. В атмосфере бушующего океана литературной и внелитературной жизни продолжали творить и развивать великое наследие классиков крупные русские , такие как Сергей Залыгин, Фазиль Искандер, Александр Солженицын, Виктор Астафьев, Василь Быков, Михаил Кураев, Валентин Распутин, Владимир Войнович, Марк Харитонов, Виктор Конецкий, Даниил Гранин, Владимир Маканин и многие другие.
В эстетическом многообразии литературы писатели-реалисты ищут свои пути и способы обновления поэтики. Появились термины, которыми критика стремится пометить эти тенденции: новый реализм, трансметареализм и т. д. Под знаком нового реализма анализируются произведения Алексея Варламова, Руслана Киреева, Михаила Варфоло-меева, Леонида Бородина, Бориса Екимова, двучастные рассказы Александра Солженицына. Термин трансметареализм используется в качестве ключа, который позволяет отпереть двери в пространство новых художественных форм, ранее не укладывавшихся в систему реалистических норм и канонов. Таких подходов потребовало творчество Владимира Маканина, Анатолия Кима, Юрия Буйды, Алексея Слаповского, Михаила Бутова и других. Приходится признать большую степень непроясненности, которая характерна для анализа подобных произведений с целью выявления в них доли истинного реализма и его отступлений в сферы фантастического, мистического, магического. Именно в таких случаях возникает спасительная возможность отнести подобные тексты к «другой» , «иной» прозе.
Огромный пласт возвращенной в 1980-1990-е годы эмигрантской русской литературы, существовавший десятилетия за пределами России в культурной диаспоре различных стран Европы и мира, лишь условно может восприниматься как некое единение по одному признаку: возвращение из изгнания и воссоединение с общим процессом русского литературного развития конца века. Совершенно очевидно, что эта литература художественно многообразна, она требует специального исследования не столько по сходству, сколько по различию.
Даже наши уважаемые «толстые журналы», символы единения писательских сил на основе сближения общественно-эстетических платформ и программ, сыгравшие во всей истории русской литературы (в том числе и в XX веке) сложную роль консолидации литературных сил, взявшие на себя функцию структурной самоорганизации, в конце века изменили эту роль.
Картину общего эстетического разброса дополняет ситуация в области русской поэзии конца столетия. Общепризнано, что проза доминирует в современном литературном процессе. В течение этого десятилетия поэзия пережила эволюцию от состояния практически полного бескнижья до положения, когда книжные полки и прилавки книжных магазинов проседают под грузом стихотворных сборников, изданных либо за авторский, либо за спонсорский счет тиражами в 300-500 экземпляров. «Издать себя любимого может в принципе любой, кто освоился в рынке» (С. Чупринин).
Поэзия несет на себе тот же груз времени, те же черты смятенной и разбросанной эпохи, те же стремления войти в специфические зоны творчества. Поэзия более болезненно, чем проза, ощущает утрату читательского внимания, собственной роли быть эмоциональным возбудителем общества. Она все более тяготеет к элитарности, в том числе в выборе своих учителей и кумиров от модерна и декаданса Серебряного века до растущего от года к году и наполняемого магией личности и авторитета Иосифа Бродского, трагическая биография которого почти канонизирована. Более, чем другие роды и виды литературы, поэзия 90-х демонстрирует тезис о том, что в русской культурной ментальности исчезло само понятие всенародной литературы.