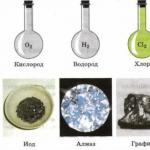Н. Степанян
Декоративные искусства развиваются по законам, близким к законам архитектуры, в теснейшем контакте с ней. Первая половина 20 в. для декоративного искусства Франции, так же как и для архитектуры,- время смены двух определенных архитектурно-стилевых направлений. Первая четверть идет под знаком так называемого модерна, вторая может быть названа периодом сложения и победы принципов современной архитектуры, во Франции выступающей под знаком функционализма, связанного в первую очередь с именем Ле Корбюзье. История прикладного декоративного искусства Франции 20 в.- это история прикладного искусства эпохи модерна, а затем его повсеместного вытеснения иной, во многом противоположной, связанной с новым интерьером, с новым пониманием синтеза и взаимоотношения прекрасного и полезного, художественной промышленностью наших дней. Стоит отметить, что Франция и в 20 в. была страной законченного, обдуманного и выявленного вплоть до крайностей архитектурного, а стало быть, и прикладного - декоративного мышления, как и в первой, так и во второй четверти нашего века.
Как ни было кратковременно господство модерна в мировой и, в частности, французской культуре, ему нельзя отказать в некотором единстве определенных, последовательно и во всех областях проводимых эстетических принципов. И хотя в современной архитектуре и декоративном искусстве Франции модерн был забыт и не оставил почти никаких следов, именно в первой четверти 20 в. возникли некоторые организационные и творческие формулы, которые были использованы много позже, в 50-х гг.
Мастера модерна первые высказались за возрождение прикладных искусств после длительного периода их упадка в 19 в. и за синтез искусств, причем последний понимался в этот период как внешняя, декоративная взаимосвязь всех окружающих человека предметов в архитектурном пространстве, связь убранства интерьера с внешним оформлением зданий. В это время появляются художники-прикладники широкого профиля, декораторы, осваивающие все виды прикладного искусства-от мебели до осветительной арматуры, декоративных тканей, посуды, одежды и бижутерии.
Эклектичность, свойственная архитектуре модерна и отражающая почти зеркально вкусы буржуазии, скудость идейного и творчески-эмоционального содержания придают всему искусству модерна несколько нарочито показной мещанский характер.
Вялость линий, отсутствие четких конструктивных членений, полное неумение увидеть красоту функционально обусловленной формы предмета и постоянная тяга к зашифровке объемов, к их дроблению, вычурность форм, покрытых декором, как куском ткани (даже рояли в этот период покрывались цветной инкрустацией!), и создают «стиль». Интерьер перегружен безделушками, предметами лишними, бесполезными, но несущими, по мнению художников модерна, «эстетическую идею». Инкрустированная шкатулка, наполненная квазистаринными предметами,- вот обязательная принадлежность буржуазного дома этого времени. В орнаменте господствуют водоросли, ирисы, гладиолусы, среди камней любимый - опал. Пряность и жеманность - основные свойства прикладного искусства модерна, не разрабатывающего новой конструкции изделий, никак не отражавшего перемен, которые претерпевала социальная структура общества. Модерн лежит вне процессов демократизации, характерных для первых двух революционных десятилетий 20 в., процессов, вызвавших во многом коренные изменения в архитектуре и создавших новую архитектуру, а впоследствии-прикладное декоративное искусство.
Но одновременно в период модерна создаются творческие мастерские, послужившие образцом для современных французских дизайнеров, то есть объединения архитекторов и художников-прикладников, которые могли брать на себя разработку и конкретное осуществление архитектурных ансамблей. Среди этих творческих групп во Франции начала века следует отметить основанный архитектором-бельгийцем Анри ван де Вельде «Мезон модерн», оказавший огромное влияние на сложение вкусов буржуазии первой четверти 20 в. Здесь подвизался известный декоратор Морис Дгофрен, работавший как бижутьер и мастер по стеклу; Абель Ландри, создававший эскизы мебели и вышивок.
«Мезон модерн» не только проектировал общественные и жилые интерьеры, его художники нередко были и мастерами-исполнителями, интерьер весь создавался при объединении, в прекрасно налаженных мастерских.
Принципиально новые явления во французском декоративном искусстве появляются в 20~х гг., и связаны они с первыми шагами новой архитектуры, с программой веймарского Баухауза, живо воспринятой во Франции. Однако на первых порах архитектура, развивавшаяся под знаком конструктивизма, в своих поисках логичности, строгой целесообразности, функциональности вызвала в области прикладных искусств нигилизм и запустение. Переход к машинному производству предмстон быта, проблемы технической эстетики, культ машин вытеснили из прикладных искусств элементы эмоционального осмысления мира, оторвали их от веками сложившихся традиций формообразования, от той связи, которая существует между творчеством в этой сфере и творчеством мастеров других видов искусств. Архитектура и прикладные искусства этого периода не хотят считаться «изящными» искусствами в сложившемся - ходячем и философском--смысле слова. Они стремятся утвердить и выявить забытое в 19 в. и в период господства модерна свое второе составное свойство - быть самой жизнью, формировать среду, пространство, в котором протекает человеческое существование, выполнять свои исконные утилитарные функции наилучшим образом. В дальнейшем переход к промышленным формам строительства в архитектуре, к производству предметов широкого потребления фабричным способом, созданию «художественной промышленности» проходит в особенно благоприятных условиях. На этом пути как архитекторам, так и художникам-прикладникам удалось найти новые эстетические законы, новое понимание красоты, связанное с индустриальными формами труда, с понятием стандарта. Процесс этот не был узконациональным явлением, он проходил в контакте, в теснейшей творческой связи с теми идеями и практическими решениями, которые имели место в других странах, в частности в молодой Советской республике.
Вместе с тем идеал аскетической строгости, подчеркнутое «ничего лишнего», «только необходимое» в оформлении интерьера и предметах быта очень быстро обнаружили свои уязвимые места. Освоив новые эстетические закономерности промышленного индустриального строительства и фабричного производства предметов, раньше создававшихся вручную, архитектура и прикладные искусства ощущают необходимость в эмоционально-образном обогащении.
Совершенно справедливо замечание одного из наиболее серьезных теоретиков архитектуры и дизайнерства 3.Гидиона: «Если мы признаем право на существование эмоций в этой области, архитектура и градостроительство не могут больше быть в отрыве от своих сестер-пластических искусств. Архитектура не в состоянии больше быть в разводе с живописью и скульптурой, как это было в течение полуторастолетия и как это есть в наши дни».
Для прикладного и декоративного искусства эта потребность формулировалась несколько иначе - не синтез пластических искусств с архитектурой, а соединение идей, возникающих в творчестве художника-прикладника, в уникальных произведениях декоративного искусства, с промышленным производством предметов потребления. Проблема этого соединения и варианты творческих решений и составляют суть эстетических поисков французских мастеров наших дней.
50-е гг. можно считать годами расцвета декоративного искусства современной Франции. Это годы наиболее полного раскрытия возможностей функциональной архитектуры, годы сложения принципов современного интерьера, в котором декоративным и прикладным искусствам отведена особо важная роль носителей Эмоционального и индивидуального начал, носителей черт национальных, сложившихся веками традиций оформления пространства, определенного художественного мышления.
Для прикладного и декоративного искусства Франции наших дней характерны чрезвычайно широкий охват явлений жизни, оригинальное развитие почти всех областей и жанров. Текстиль, моделирование одежды, посуда, стекло и декоративная керамика, ювелирное дело, разнообразнейшая арматура приобрели в одинаковой мере высокие эстетические качества. Расцвели такие сравнительно редкие области, как ковроделие и витраж, теснейшим образом связанные с характером современных архитектурных поисков. Причем интересно, что наиболее выдающиеся мастера изобразительного искусства и архитекторы пробуют свои силы в области прикладных и декоративных искусств и нередко именно здесь находят полное, органичное выражение основных принципов и идей своего творчества. Достаточно назвать керамику Ф. Леже и П. Пикассо, ковры и афиши Р. Дюфи, витражи А. Матисса, гобелены, сделанные по рисункам этих художников.

Большинство прикладников современной Франции владеют несколькими материалами. Так и в коврах и в керамике работает Ж. Люрса, в коврах и прикладной графике-Ж. Пикар-Леду и другие.

Особо следует отметить декоративные керамические рельефы Ф. Леже, своеобразные скульптурные парафразы его живописных работ, предназначенные для общественных интерьеров и внешнего оформления зданий. Объединяя в своей образной системе качества скульптуры, живописи и декоративных искусств, Эти рельефы сами - произведения синтетические, органически входящие в сложную взаимосвязь с пластикой современной архитектурной среды, с внешним пространством, природным или городским. Оригинальность, новаторство монументальной керамики Ф. Леже, жизнеутверждающее народное начало, которым она пронизана, придают характер праздничности и естественности архитектурным ансамблям. Наиболее яркий пример - музей Леже в Биоте с огромной цветной мозаикой, на фоне которой помещены два выносных фаянсовых рельефа, и большими керамическими игрушками на склоне зеленого холма близ музея.
Такими же поисками нового единства декоративных искусств с общим решением архитектурного пространства отмечена декоративная керамика П. Пикассо. Лепная, подчеркнуто «рукотворная» по формам, покрытая свободным ярким рисунком, она представляет собой прямую противоположность выполненной фабричным способом посуде, вносит в строгость и простоту современного интерьера индивидуальное творческое начало, остро контрастирует с окружением. Сосуды-люди, сосуды-звери, декоративные блюда, исполненные Пикассо, овеяны юмором. В своей забавности, свежести взгляда на привычные формы эти произведения связаны отчасти с народным гончарством, с традициями крестьянской керамической игрушки.

Результатом творческого понимания связи декоративных искусств с архитектурой явились наиболее значительные из современных общественных интерьеров Франции - интерьеры новых парижских аэровокзалов, залов заседаний ЮНЕСКО, парижского Дома радио.
Среди архитектурно-декоративных решений последних лет следует отметить шедевры камерной архитектуры - небольшие церкви 50-х гг.: церковь в Асси (1950, архитектор М. Поварина) с большой внешней керамической мозаикой Ф. Леже, витражами Ж. Руо, фаянсовыми панно А. Матисса и ковром Ж. Люрса «Дракон и Дева» над аналоем; церковь в Одинкуре с декоративными витражами Ж. Базена и две небольшие церкви - в Роншане (1950-1954) и в Вансе (1951), выполненные от начала до конца, во всех деталях внутреннего оформления, Ле Корбюзье и Матиссом. Маленький интерьер капеллы в Вансе - со сверкающими белыми фаянсовыми панно, покрытыми легким черным рисунком, яркими витражами, напоминающими вырезки из цветной бумаги и кидающими цветные блики на стены и мраморный пол, с тонким силуэтом металлических подсвечников - создает состояние гармонии и лада, полное сдержанного изящества и поэтичности.
Принципиальное значение имеет широкое привлечение художников для декоративного оформления школьных зданий, мэрий и т. д. рядом муниципалитетов, возглавляемых коммунистами. В качестве примера можно сослаться на керамические панно, посвященные темам спорта и детских игр, выполненные А. Фужероном для начальной школы в Виль-Жуиф (предместье Парижа).
Разница двух отмеченных периодов в истории декоративного искусства Франции 20 в. особенно разительна на примере французского художественного стекла. Выставка 1900 г. была триумфом Эмиля Галле (1846-1904), типичного ма_тера модерна, блестящего экспериментатора в области создания новых видов стеклянной массы. Полупрозрачное стекло в работах Галле комбинировалось с непрозрачным, создавая многослойную поверхность, на которой живописный рисунок или скульптурный рельеф выделялся не линейно, но всей структурой. Специфика самого материала - прозрачного и хрупкого по природе - лежала вне понимания Галле. В его работах стекло имитирует полудрагоценные камни, камею, оно кажется твердым и плотным. Вычурные и сложные по форме вазы, бокалы, декоративные блюда Эмиля Галле создали славу французскому стеклу начала века. У Галле было немало последователей в разных странах. Это направление выражало суть стилистических поисков периода и само явилось одним из его определителей.
Традиция использования в стекле цветного рельефа продолжалась другими мастерами- Морисом Марино, Жаном Люсом, Марселем Гупи и другими. Мифологические сцены, привычная для декоративного искусства модерна орнаментика, замысловатый скульптурный декор переносятся на изделия из стекла, объединяя их именно в плане внешнего оформления со всем рисунком интерьера, а через него - дальше, со всем характером архитектуры этого времени.
Наиболее прославленным мастером первых трех десятилетий 20 в. и вместе с тем мастером, работы которого и в следующий период казались интересными и могли творчески использоваться, был Рене Ладик (1860-1945), на выставке 1900 г. прославившийся как мастер-бижутьер и обратившийся к работе над стеклом позже.
Если Галле и его школа стремились к созданию в стекле имитационных эффектов, зашифровывали подлинные свойства стекла, то Лалик понимал и выражал пластические свойства своего материала. Живописность формы и декора, их свобода, асимметрия, составляющие смысл своеобразия произведений мастерской Галле, отходят теперь на второй план. В работах Лалика гораздо больше цельности, архитектурной логичности. Пластичность его ваз - не повторение форм современной станковой скульптуры, но совершенно оригинальная, исполненная декоративности и острого своеобразия пластичность, подчеркивающая общий ритм формы. Лучшие работы Лалика великолепны по выделке, это своего рода драгоценность, уместная в любом архитектурном интерьере. Литые формы работ Лалика, их «музыкальность», «стеклянность» облегчили мастерам современного французского стекла поиски новых стилистических решений,-по существу, они начинали новый период.

В 1901 г. Анри Кросом был вновь открыт утерянный секрет выделки пластического стекла. Началось его широкое использование в области мелкой скульптуры, создание различных предметов из стекла (прессы, подсвечники и пр.).
В 1920 г. Франсуа Декоршмон добился новой массы - полупрозрачного, просвечивающего пластического стекла, декоративные свойства которого стали также широко применяться. Комбинация различных по своим свойствам видов стекла, использование эмалей, многоцветность и пр. придают уже к 30-м гг. художественному стеклу то разнообразие, которое выдвигает этот декоративный материал в первые ряды.
Расцвет в области художественного стекла падает на послевоенные годы - конец 40-х - начало 50-х гг. и связан с общим подъемом прикладного декоративного искусства. В отличие от мебеди, подчинившейся общеевропейскому стандарту, грубая керамика и стекдо наравне с текстилем стали носителями творческого, индивидуального начала. Выпускаемое небольшими сериями, художественное стекло сохраняло качества уникального произведения искусства, высокий класс машинного производства в этой области органически соединялся с острыми индивидуальными поисками мастера. Декоративные вазы и блюда из стекла, витражи и стеклянные панно вносили в суховатый современный жилой и общественный интерьер ощущение рукотворности, свободного соединения творческой воли художника с природным материалом. Причем свойства материала в стекле - а также в керамике, текстиле, гобеленах,- в отличие от периода модерна, теперь выявляются и подчеркиваются, ложатся в основу эстетического эффекта.
Развитие самого производства художественного стекла протекает на фабриках Нанси (здесь находится старейшая фирма Баккара, здесь работал Э. Галле) и Парижа. В Париже находится филиал фирмы Баккара - фабрика художественного стекла Сен-Луи, на работах которой вплоть до конца 30-х гг. чувствовалось влияние мастеров «Мезон модерн», в частности Мориса Дюфрена. В Париже главным образом находятся небольшие фабрики и мастерские художественного стекла, принадлежащие часто самому мастеру-дизайнеру. Такова прославленная мастерская Макса Ингранда, выпускающая декоративные изделия самого Ингранда, церковные витражи, декоративные стеклянные перегородки для общественных интерьеров, океанских лайнеров. Такова фабрика Рене Лалика, которая в настоящее время работает по эскизам Марка Лалика (р. 1900)- сына прославленного мастера. В его декоративных вазах разнообразно использованы фактурные возможности стекла. Небольшое по размеру, но получившее всеобщее признание предприятие- фабрика «Жеймо де Франс», производящая стеклянные декоративные панно из плавленого многоцветного стекла. Эта созданная в 1953 г. по инициативе художника Жана Кротти мастерская вначале просто повторяла в стекле наиболее известные произведения Дега, Брака, Пикассо, Жана Кокто, но затем стала создавать совершенно оригинальные произведения декоративного искусства. Здесь работают Роже Безомбе (р. 1910), Лиз Дрио (р. 1923)-художники, сыгравшие немалую роль в сложении современного общественного интерьера, остро чувствующие потребности современной функциональной архитектуры и умеющие внести в предельно простой, подчиненный идее внутренней оправданности современный интерьер ту непринужденность и звонкую яркость, которых можно добиться, владея секретами стекла.
Из современных мастеров, работающих в области декоративного стекла и посуды, выделяются Макс Ингранд (р. 1908)-тонкий художник, часто использующий в своих работах комбинацию блестящего, лощеного рельефа рисунка с как бы покрытой изморозью шероховатой поверхностью предмета, и Мишель Даум (р. 1900)- мастер, увлекающийся чистой текучестью прозрачных форм, исконными свойствами стекла.
На послевоенные годы падает расцвет французского текстиля и таких связанных с ним областей, как производство декоративных тканей, моделирование одежды и производство гобеленов.
Здесь французские художники особенно широко используют национальные традиции орнаментики, создаются ткани с изысканной текстурой, производство рельефной парчи и кружев вновь переживает расцвет. В традиционных центрах - Лионе, Шантильи, Алансоне, Валансьене - вновь возникают мастерские и небольшие по размеру фабрики, продукция которых по качеству не уступает ручным изделиям. Применение ацетатных тканей во Франции из-за годов оккупации сильно запаздывало. Однако именно Франции в 50-х гг. принадлежит инициатива создания смешанных по характеру тканей, составленных из искусственных и натуральных волокон.
Нельзя не отметить, что, хотя ткани и связанное с ним моделирование одежды в современной Франции стоят на очень высоком уровне, в этой области чаще, чем в иных видах прикладного искусства, дают о себе знать снобизм и экстравагантность. Впрочем, эти свойства исчезают при переходе определенной композиции, найденной в декоративной или малосерийной ткани, на массовку или при переводе сложного уникального туалета из «коллекции» какого-либо прославленного французского Дома моделей - в стандартную одежду сезона.
В области декоративного текстиля пробовали себя крупнейшие прикладники современной Франции. Еще в годы оккупации такие мастера, как Р. Фюмсрон, Мадлен Лагранж, Ж. Д. Малькле, обратились к оформлению интерьеров. К 50-м гг. создалась школа художников, работающих в тесном контакте с модельерами и архитекторами и в одинаковой мере работающих над тканями для платья, для декоративного убранства интерьера, создающих рисунки обоев, театральные и иные афиши, эскизы к гобеленам. П. Урель, Р. Перрье, Ж. Жанен, П. Марро, П. Фрей - безукоризненный вкус этих мастеров, декоративное чутье, красота их работ создали современному французкому текстилю общеевропейское признание.
Наиболее значительное явление в декоративном искусстве современной Франции- расцвет ковроделия, традиционной для этой страны области декоративного искусства, совершенно забытой за последние полтора столетия. «Кочующие фрески», по образному определению Корбюзье, гобелены стали желанным украшением современного архитектурного интерьера. Благодаря коврам современная архитектура могла облачиться в тона поэзии, не изменяя своему идеалу строгой простоты. Художники обратились к самым старым традициям французского гобелена, к периоду, когда специфика этого вида искусства только складывалась и обнаруживала себя с особой свободой и беспримесностью. Преломляя обще-стилистические поиски современного декоративного искусства, художники по ковру подчеркивают те поэтические и фантастические начала, которые есть в современном искусстве, создают произведения, не только связанные с архитектурой, но и синтетические сами по себе, соединяющие элементы изображения с орнаментальным началом, включающие, как в коврах Жана Люрса (р. 1892), тексты, геральдические знаки и порожденные нашим временем научные символы. Ковры Люрса читаются, они постепенно раскрывают свой затаенный смысл, не только захватывают красотой и неожиданностью композиции и цветовых сочетаний, но и глубиной ассоциаций, целым строем образов, доступных и понятных людям нашего времени. Лучшие из работ Люрса - его большие ковры 50-х гг.- «Сад поэта», посвященный Полю Элюару, «Четыре петушка», «Ночной полет», «Тропики», «Голубой татарник». Обратившись к ранним французским гобеленам и широко используя их образный строй, Люрса создал свой собственный мир. В его обюссонских коврах есть попытка охватить всю вселенную - солнце, растения, животных, символы времен года, аллегории соединяются на громадных ярких плоскостях непринужденно и с той возвышенной риторичностью, которая для французского декоративного искусства тоже во многом традиционна.


Центр современного ковроделия - Обюссон. Здесь выполняются ковры Люрса, похожие на яркие витражи ковры М. Громера, прямо цитирующие средневековые гобелены ковры Дом-Робера, гобелены М. Сен-Санса с сюрреалистическим налетом, похожие на графические арабески ковры Ж. Пикара-Леду.
Наравне с панно из цветного стекла, с керамическими цветными рельефами современные французские гобелены представляют достижение национальной декоративной школы, своеобразное соединение всех творческих усилий, всех наиболее разумных и поэтических элементов, которые несет в себе архитектура и прикладное искусство современной Франции.
На правах рукописи
ВАНЕЯН СТЕПАН СЕРЕЖЬЕВИЧ
АРХИТЕКТУРА И ИКОНОГРАФИЯ.
АРХИТЕКТУРНЫЙ СИМВОЛИЗМ
В ЗЕРКАЛЕ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ
Специальность 17.00.04-
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура
диссертации на соискание ученой степени
доктора искусствоведения
МОСКВА 2007
Работа выполнена на кафедре всеобщей истории искусства
Исторического факультета Московского Государственного
Университета имени
Официальные оппоненты:
Доктор искусствоведения
Доктор исторических наук
Доктор философских наук
Ведущая организация: Кафедра всеобщей истории искусства Российского государственного гуманитарного университета
Именно в Введении обоснована и актуальность темы исследования, и методологические параметры, и общие ее историографические контуры, и логика ее построения.
СИМВОЛИКА ДОМА БОЖЬЕГО И АРХИТЕКТУРА ЦЕРКОВНОГО ЗДАНИЯ
И первый из подходов связан напрямую со всей традицией и существования сакрального христианского зодчества, и его комментирования, в том числе, и на богословском уровне. Этот подход коренится в недрах раннехристианского и средневекового богословия, продолжается в рамках такой дисциплины, как церковная археология (наука о церковных древностях), и приобретает новое звучание в 20 веке благодаря усилиям богослова и историка искусства Йозефа Зауэра. Его книга 1902 года «Символика церковного здания в восприятии Средних веков на примере Гонория Отенского, Сикарда и Дуранда» прямо продолжает и отчасти завершает всю традицию символически-аллегорического богословствования по поводу храмового, церковного зодчества.
Для Зауэра крайне принципиально то, что вся эта символическая и, казалась бы, архитектурно-строительная традиция, на самом деле имеет чисто литературное происхождение и только приспособлено к созерцанию церковного здания. Поэтому предмет изыскания Зауэра – «литературная церковная символика», взаимоотношение искусства и символа, который Зауэром определяется как «образ, предназначенный для воспроизведения мысли или факта, которые не следует непосредственно из понятия этого образа». Но для Зауэра именно Литургия является истоком самой величественной и самой существенной символики, за которой стоит очень определенная и неустранимая функция архитектуры, ибо Литургия совершается в определенном месте, и сакральные места, подобно сакральному времени «пропитаны» символическими идеями, ведь они сами обозначают участие в Таинстве и, значит, приобщение к его символизму.
Впрочем, символизм предполагает толкование, экзегезу, которая только и делает конкретное церковное здание-постройку Домом Божьем. Основа этой экзегетики – аллегоризм и типологизм , берущий начало в самом Св. Писании, когда сакральный топос налагается на риторический (проповеднический) троп. Смысл Писания буквально переносится , накладывается на смысл Литургии, и вслед за этим подобный метафорический импульс передается и пространству церковного здания, собора, понятого как сумма священных мест, обращенных в сторону верующего – внимающего и воспринимающего посетителя храма. Но здесь важно уточнение: только «литургическое использование» Писания объясняет склонность группировать, соотносить священные события и факты, далеко отстоящие друг от друга и, наоборот, разделять и противопоставлять родственное и близкое.
Самый типичный пример конвенциональности подобного символизма – это нумерология, которая подразумевает символизм космоса и пространства, где принципиально новым, христианским был один момент: это отождествление концов Креста с четырьмя сторонами или частями света. Символика пространственных векторов в их соотношении с явлениями небесными и земными, в том числе и связанными с земной поверхностью дает ориентацию и в реальном пространстве, и в его интеллектуально-духовной проекции. Внешняя ориентация отражается и во внутреннем устройстве церковного здания, что предполагает и просто задает определенный порядок движения присутствующих в храме.
Конечная цель символического толкования – понимание совершающейся в храме Литургии, которая составляет «наиболее сокрытую и неповторимую жизнь Церкви». И понимание этой таинственной сердцевины церковного бытия невозможно без изъяснения того места, на котором Литургия совершается, с которым она связана как душа с телом. Другими словами, архитектура есть материальное, телесное условие духовных процессов.
Более того, материальное можно рассматривать как конкретизацию, осуществление, реализацию замысленного, задуманного, почувствованного и пережитого. Кроме того, опять же телесность – или метафорическая, или сакраментальная, или реальная – выступает связующим звеном этого символизма : можно сказать, что храмовое здание, будучи само телесно материально, но и иносказательно (виртуально), способно включать в себя буквально телесность молящихся, просто присутствующих в нем.
Поэтому храмовая топология имеет сразу несколько измерений, доступных истолкованию. И если само Писание – это уровень теофании, а экзегетика – богословия, то, например, тексты, подобные книге Зауэра, – это, по крайней мере, культурно-исторический уровень церковного сознания. Комментируя данный текст, достигаем ли мы некоего «четвертого измерения» интерпретации? Возможно, если допустить в качестве нашей задачи не столько ис-толкование, сколько «рас-толкование», снятие покровов аллегоризма и вербальности.
Но важен и концептуальный пафос подобной методологии . Она построена на максимально точном, верном и адекватном описании той самой символической образности, что оказывается предметом исследования. И исследования именно предметного, так все образы берутся как отдельные предметы, изолированного, как части списка или инвентаря.
Но в храме существуют пространственные зоны, буквально пределы толкования внутри богослужебного пространства, когда никакое иносказание уже не нужно. Это зона алтаря, где совершается Евхаристия, смысл которой предполагает своего рода мистериальный буквализм, реализм, что делает фактически ненужным толкование архитектуры.
Хотя, на самом деле, образность, изобразительность, отношения сходства и подобия связывают и пронизывают все связи и отношения между Литургией, архитектурой, изобразительным искусством и символическим комментированием. Во всяком случае, в связи со всеми этими отношениями подобия можно говорить о своеобразной литургической иконографии, подчиняющей себе принципиально гетерогенные явления. Замечательный пример тому – образ так называемого «вечного светильника», пребывающего в Храме Св. Грааля, который, в свою очередь, есть несомненный образ – комментирующий и истолковывающий – христианского церковного здания.
Поэтому, мы имеем дело вовсе не с художественным, а с чисто символическим пространством, очень узким и составленным из понятий. Перед нами самая настоящая символика идей, которая, впрочем, соотнесена с определенными предметами, которые образуют, по всей видимости, смысловой контекст восприятия и усвоения этих идей. То есть, предмет образует среду, внутри которой движется мысль, будучи одновременно и средством закрепления эйдоса в этом материальном мире. И образ этого мира – архитектурное пространство.
Но после устроения среды можно и нужно ее обустроить , то есть украсить, и это, с одной стороны, дополнительные, так сказать, возможности, а с другой – неизбежное и необходимое расширение собственно архитектурно-литургической символики, или, лучше сказать, символической семантики. И совершается подобное расширение средствами собственно изобразительного искусства.
Поэтому средневековые литургисты пытаются обсуждать и «иконографическое убранство церковного здания», то есть «украшение посредством собственно образов»..И здесь их поджидают весьма не простые испытания, ибо они в данной ситуации лишаются последних резервов богословия и как никогда приближаются к собственно художникам.
Богословские трудности коренятся в том, что литургически-аллегорическое комментирование в общем виде исчерпало себя еще до обращения к изобразительному искусству. И потому особо ценным выглядит качественное обогащение экзегетики – через введение дидактически-этических тем – когда она соприкасается с тематикой «психомахии». Воспроизводя душу с точки зрения ее содержания (борьба добродетелей и пороков), изобразительное искусство воспроизводит и самого человека, причем целиком, с участием и тела, пускай и косвенно. Не трудно заметить, что тот же принцип действует и в сфере архитектоники: внутреннее пространство изображается посредством его обрамления, через артикуляцию внешних пределов, с которыми, между прочим, связано изобразительное убранство.
Итак, с точки зрения Зауэра, мы имеем «первые систематические трактаты о христианской иконографии», позволяющие в том числе заглянуть в душу средневекового человека и дающие возможность ознакомиться со «средневековым восприятием художественных вещей». Но для кого предназначались тексты средневекового литургически-символического богословия? По всей видимости, – для читателя образованного, равно как изобразительное искусство – для необразованного зрителя.
Существует целый ряд общих принципов, характерных черт символической литургики, которые, на самом деле, затрудняют или просто делают невозможными, не интересными и не обязательными прямые контакты с изобразительным искусством. Это, во-первых, практически-функциональный характер подхода к вещам, подвергаемых символизации. Во-вторых, интерпретация лишь внешних свойств вещей, их цвета, количественных свойств. В-третьих, субъективный момент: интерпретатор считает нередко своим долгом что-то сказать от себя. Художник-профессионал не в состоянии был по этой причине следовать за импульсами и мыслями символистов в том же порядке, что и у них. Сама манера обращения с материалом не могла быть воспроизведена, считает Зауэр, и потому нет никакого основания рассматривать эти тексты как программы и говорить о зависимости художников от литургистов.
Но существует и архитектоническая символика Церкви-экклесии. То есть, церковное здание – это «воспроизведенная в каменном сооружении христианская община», ее органические членения – это свойство, на самом деле, человеческого тела, отображаемого в здании. Идея зафиксированной в камне телесности – наиболее, наверное, фундаментальное представление подобной символики. И потому, в конечном счете, «великое целое христианства как единой семьи» представляется символисту в зеркале Дома Божьего.
Зауэр до конца остается непреклонным, подчеркивая невозможность найти прямой литературный источник для изобразительного искусства, который мог бы «открыть нам значение отдельного произведения». Единственное что-то похожее – это, конечно, же тексты аббата Сугерия. Но тем не менее, «мы не знаем ничего относительно типа и способа переложения богословских идей в художественные формы».
И все необходимо осмыслять внутри общего и всеобъемлющего понятия Церкви, которое «охватывает гораздо больше, чем мы привыкли считать». Этим тезисом Зауэр заканчивает свое сочинение, еще раз подчеркивая универсальность экклезиологического подхода.
Тем не менее, остается открытым один совершенно фундаментальный вопрос: может ли архитектура непосредственно изображать нечто такое, что не изобразимо иными способами? Другими словами, семантика, символика, значение архитектуры полностью ли зависит от ее назначения, от ее функциональной наполненности, или в архитектуре есть нечто самоценнное, самоочевидное, что позволяет оценить, осознавать и понимать архитектуру, церковное здание в ее предметной, то есть, феноменологической определенности?
ИЕРОГЛИФИКА АРХИТЕКТУРЫ В ЗЕРКАЛЕ ИКОНОГРАФИИ
Итак, как же возможно совместить и литургичность (то есть, прямую функциональность сакральной постройки), и художественность (то есть, ее исполнительские аспекты и эстетические возможности, ориентированные на зрителя)? С этой задачей отчасти справляется французский ученый Эмиль Маль в своей книге «Французское религиозное искусство 13 века» (1898) – фактически первый в истории науки об искусстве опыт встречи и сопряжения иконографической и архитектурной традиции.
Эмиль Маль, подобно истинному археологу (при этом церковному!) достаточно быстро обнаруживает то место, где следует искать церковное искусство и находить его смысл. Для этого нужно взглянуть на собор и войти внутрь его. Вспомним, что для литургиста-богослова Зауэра практически исчерпывающее знание о соборе заключалось уже в его портале. Так рождается первый в истории науки об искусстве опыт встречи и сопряжения иконографической и архитектурной традиции.?
Но что является источником значения для религиозного, христианского, средневекового искусства вообще? Ответ звучит вполне ожидаемо: «искусство Средних веков в первую очередь и по преимуществу – это Священное Писание, и алфавит его обязан был учить каждый художник». Буквы этого алфавита представляют собой «знаки, предназначенные для предметов видимого мира», так что мы имеем «истинные иероглифы, в которых искусство и письмо смешаны, являя единый дух порядка и абстракции , то самый, что присутствует и в искусстве геральдики с его алфавитом, с его правилами и символизмом».
Итак, в первую очередь это искусство сродни даже не языку, а письму, во всяком случае, речи, на которой говорят, общаясь и изъясняясь, пользуясь условными, иероглифическими знаками, скрывающими в себе и мысли, и чувства верующего сознания. Организовано же это письмо по законам «сакральной математики», ведь вторая характеристика средневековой иконографии, имеющая «исключительную важность», – это «положение, группировка, симметрия и число».
Третья характерная черта средневекового искусства – наличие в нем «символического кода». Причем символизм (аллегоризм) мышления присущ был не только одним ученым богословам, его разделял весь народ, к которому обращала свою проповедь Церковь.
Каким же образом обеспечить заявленную соборность (собирательность, исчерпанность и упорядоченность описания) и гармонию (согласованность смысловых отношений) на уровне иконографии? Единство и гармония метода обеспечивается единым литературно-богословским источником , которым по мнению Маля, является текст Винсента из Бовэ – «Зерцало мира». Это настоящая энциклопедия, справочник , которым пользовались средневековые мастера – и мастера слова (богословы), и мастера дела (строители) – и к которому могут обращаться и нынешние исследователи.
В этом тексте содержится метафора зеркала. Не углубляясь в этот образ, отметим сразу, что Speculum – это письменный источник, который уже в себе содержит момент иллюстративности, изобразительности и потому подходит для изобразительного искусства по-особому. Благодаря своей особой миметичности этот источник оказывается не просто источником сведений по иконографии, а источником средств иконографии!
В конце концов собор сам становится текстом, который только надо прочитать. При том, что сквозная зеркальность обеспечивает изоморфизм и изотопию всех этих столь несхожих, но все-таки текстов, которые, копируя, комментируют друг друга, а тем самым раскрывают и ту тайну, что заложена в мироздании как таковом. Этим же занимается и иконограф, если следует хотя бы за предложенной Speculum majus четырехчастной схемой: зерцала природы, зерцала просвещения, зерцала морали и зерцала истории.
И в этом случае, труд иконографа – это труд по прочтению, это усилие классифицирующее и упорядочивающее, это попытка в формах видимых найти отражение вещей невидимых. Другими словами, иконография – это способ использования искусства в качестве всеобъемлющего и «всеотражающего» зеркального символа, который когда-то в прошлом вобрал в себя, а теперь готов отразить вовне некоторый набор истин и переживаний.
Зеркало природы – отражение устройства, строения тварного мира во всем его многообразии, и эта метафора легко прилагается к собору, точнее говоря, к «схеме собора». Собор «полон жизни и движения», он есть образ Ковчега (который есть в свою очередь прообраз Церкви), вместилище всевозможных тварей. Кроме того, собор отражает и общий взгляд на мир, свойственный средневековому человеку, для которого мироздание – единый, сплошной символ, ибо мир есть творение Бога, Его мысль, ставшая через Слово материальной реальностью.
Но истинное знание состоит в том, чтобы проникать во внутренне значение. Не трудно узнать в этом собственно иконографический процесс: через чтение-описание внешних образов оказывается возможным вхождение во внутреннее «святилище» знания. И используя прямую архитектурно-храмовую метафору, Маль почти что буквально всматривается внутрь церковного здания, обнаруживая в глубине алтарь , престол, наконец, – Евхаристию. Именно внутри собора «мир материальный и мир духовный образуют одно целое». Задача иконографии – обнаружить это единство на уровне изобразительного образа, и архитектура, как уже говорилось, представляет собой образ обращения с этой изобразительностью, способ, инструмент доступа.
Но для Маля важно различать механическое копирование неких образцов (типично для романского искусства) и творчество, в том числе иконографическое. Это значит, что повторы, заимствования уже не подлежат символической интерпретации, это уже предмет не иконографии, а, например, истории вкуса. Другими словами, символ должен быть столь же оригинален, как всякое произведение искусства. Обеспечивает эту самую оригинальность непосредственный взгляд на вещи. Таков готический мастер, в отличии от романского. И источник оригинальности и, соответственно, подлинности, достоверности – литературный текст, произведение словесного искусства, лучше всего – поэзии.
Так, постепенно, Маль открывает собственный смысл архитектуры. Это место, пространство, которому художник может доверить свои творения, ибо в соборе присутствует творческое начало, здесь Творец встречается с собственным творением и обнаруживает его тоже творческим, сотворческим, подобным Себе благодаря свойственному истинному художнику чистому, доверчивому, неиспорченному и непосредственному, то есть детскому, благоговейному и внимательному взгляду на сотворенный мир.
В конце главы, именуемой «Зерцало художественное», мы находим очень характерное малевское выражение «собор учит нас…». Таким образом, после разговора о работе во всех ее формах, обнаруживается и тот труд, который совершается самим собором, его прямое функционирование, заключающееся в проповеди, дидактике и просвещении. Иначе говоря, иконографическое усилие имеет и обратное действие: с помощью иконографии архитектура способна общаться с внимательным зрителем, отвечать на его нужды, возвышая его до нового интеллектуального уровня. Но собор способен и сместить внимание со внешнего на внутреннее. И что происходит и с художником, и с собором, если, действительно, обратить взор во внутрь, в человеческую душу? Такова подоплека «зеркала морали».
И снова общую смысловую ситуацию определяет письменный источник, и опять – поэзия, на этот раз уже знакомая нам «Психомахия» Пруденция, где в аллегорической форме представлена «внутренняя битва» между добродетелями и пороками. Итак, сражение совершается в душе, скульптура, иллюстрирующая эту поэму, помещается в соборе, из чего следует, что и собор есть образ души.
Таким образом, Маль через постижение «человека вообще, человека с его добродетелями и пороками, человека с его искусствами, науками, вдохновленными его гением», приходит к человеку в «его жизни и действии». То есть к истории, понятой, впрочем, тоже весьма конкретно – как история спасения. Поэтому описание Священной истории, как ее «излагает собор», и включающей в себя «три акта» (Ветхий и Новый Завет, история Церкви) предваряется изложением теории истолкования, начиная с Оригена. И вчитываясь в весьма подробное описание Малем знаменитой экзегетической теории, мы снова обнаруживаем полезные нам архитектонические ассоциации и образы, позволяющие увидеть сквозь аллегорическую изобразительность сам собор как условие и цель всякой иконографичности .
И тут нас вслед за Малем поджидают некоторые парадоксы. Буквальному смыслу, согласно Оригену, соответствует тело, и если архитектура со всей очевидностью телесна, то, фактически, преодоление буквальности связана с избавлением, удалением на задний план архитектурного начала. Выходит, что архитектура мыслится «по умолчанию», как нечто невидимое или, хотя бы прозрачное. Но на самом деле тело столь же свято, как и душа, поэтому священным является и буквальный смысл, от которого вовсе не надо избавляться.
Преодолевается не телесность, не буквальность, не архитектура, а «префигурация», Ветхий Завет, аллегоризм и символизм, когда иконография, ведомая описанной нами системой зеркал, достигает «средней точки истории», то есть Евангелия. Все прежде бывшее – это «век символа» по преимуществу, который сменяется «веком реальности», прежде только бросавшей тень на прошлое, а теперь превратившейся в вечно длящееся настоящее, ибо история достигла Христа, в Котором все «начинается заново».
Но через Евангелие и иконография обретает смысл – через соотнесение с Литургией, содержащей в себе, помимо всего прочего, и евангельские чтения. Поэтому ни богословие, ни аллегорию, ни символ невозможно отменить, так как и в пространство евангельских чтений все равно входили и вписывались тексты литургистов и комментаторов. Так что искусство оставалось «воплощением богословия и Литургии».
И опять нам видится присутствие «безмолвной» семантики собора за подобной усложнившейся иконографической ситуацией, когда искусство вынуждено реагировать на «ускользающий символизм» прямого Богооткровения, концентрируя в себе и молитву, и чтение Евангелия, и ритуал, и проповедь, и богословие, и поэзию –– и все то же изобразительное искусство. Собор в данном случае обеспечивает все подобные «витки» символизма «проводящей средой», позволяющей мыслить и переживать тайну и наглядно, и телесно, и единовременно, – в настоящем, in presentio, в присутствии мистического тела Церкви, воплощенного в телесности архитектуры, и в евхаристическом присутствии Самого Слова Божьего, ставшего плотью.
Именно на этом уровне толкования оказывается задействованной, помимо сознания, рассудка, и такая способность человека, как прямое эмоциональное переживание, характерное для «простого народа», склонного к грёзам и легендам. По мнению Маля, для чувств предназначено было содержание всякого рода легендарных историй, апокрифов , рожденных человеческим воображением и рассчитанных на те самые потребности, которые не удовлетворялись чисто рассудочной пищей строгого богословствования.
Но среди всего корпуса апокрифических преданий только одна сюжетная линия имеет прямое отношение к архитектурной символике. Один из самых симптоматичных мотивов порожден упоминанием Завесы Храма, раздранной в момент Смерти Спасителя. Храм Иерусалимский упраздняется в этом событии, и поэтому, например, Дионисий Ареопагит, согласно все тому же Винсенту, наблюдая землетрясение, докатившееся до Афин, тогда-то и воздвиг алтарь «неведомому Богу». Храмовая символика в свете Страстей оказывается уже вроде как кажущейся символикой, теряющей свою силу и значение, смещающейся, сдвигающейся в сторону непосредственного Богообщения, прямого присутствия Христа. Отсюда и вся храмово-литургическая сюжетика, тематика и символика преданий о Св. Граале.
Но действие «зеркала истории», понятой как история Откровения, переходит от процесса восполнения евангельской истории посредством апокрифов, от истории сюжетов с участием священных лиц, к лицам освященным, к жизнеописанию исторических персонажей, деяния которых собственно и составляют содержание этой истории. И эти лица – «отцы Церкви, исповедники и мученики».
В качестве ведущего источника в данном случае выбирается «Золотая легенда» Иакова Воррагинского, представляющая собой все тот же компендиум, отражение и фокусировка продолжительной и обширной агиографической традиции. И потому-то в этом труде одного человека отразилась «вся полнота христианства», и части «Легенды» – «читались публике в церквях и иллюстрировались в окнах». Это очень емкая и символическая фраза, вобравшая в себя и иконографический метод Маля, и сакрально-жизненный опыт посетителя собора.
Итак, архитектура предназначена для чтения вслух, это пространство речи. А окна, украшенные витражами , а также проемы-порталы, снабженные скульптурой, – это область зрения, наглядная (и, значит, доступная) фиксация, «остановка» речи, пространство языка, то есть правил, парадигм. Кроме того, изображения, помещенные на поверхностях соборных объемов, обозначают и переход, границу между пространством трехмерным и двухмерным. При этом граница задается актом архитектурного «самоограничения»: окно, проем – это отсутствие архитектурной пластики и, значит, проникновение внешнего пространства. Изображения витражей пропускают взгляд сквозь себя, тогда как скульптура порталов уступает место человеческой телесности.
Причем именно скульптура обозначает то, что за внешним, материальным обликом вещей и людей – больше жизни. И у этой жизни другие свойства, ибо это жизнь вечная. И зритель переходит к реальности, к жизни этих образов, подражая им не столько разумом и телом, сколько душой, меняя ее свойства, заменяя, вытесняя одни (греховные) другими (обретая добродетели). Это и есть «соучастие в вечной красоте», что возможно при условии подражания «образу Божьему», проникновения в «чистую душу».
Другое условие появления того или иного святого в убранстве собора – это культ реликвий, при том, что «реликвия обладает сверхприродной ценностью», задающей в том числе и форму самого собора, когда церковное здание, по сути, становится все тем же реликварием, в позднее средневековье получившим весьма характерную форму монстранца. Та же Сен-Шапель, «самая совершенная из построек 13 века», представляла собой раку-ковчег, вмещавшую Терновый венец. А «самая прекрасная из всех мистических грёз Средних веков, сам sangrail – что это, если не реликварий»?
Итак, мы имеем дело со взаимообменом архитектурных, пластических и собственно изобразительных свойств соответствующих образов. И происходит этот, можно сказать, интегральный иконографический процесс под знаком личностных нравственно-созерцательных усилий – и не только богослова-поэта, и не только художника-скульптора, и не только зрителя-посетителя собора, но и исследователя-иконографа вкупе с читателем-толкователем его текстов.
Но у истории есть конец, который есть и конец мира. И это Страшный Суд, а «Апокалипсис» – последний из литературных источников, которые можно себе вообразить и которыми мог вдохновляться средневековой художник. Но это означает и конец искусства и, соответственно, повседневного церковного благочестия, так как перед искусством ставится задача отобразить собственный конец, собственный закат и упадок. Возможен ли этот самоотказ и, если да, то в каких формах он осуществляется? Или, быть может, соборное пространство с самого начала предназначалось для вечности и функция собора заключается в поглощении времени и всего временного, преходящего и процессуального?
На самом же деле изобразительное искусство остается, так сказать, по сю сторону Страшного Суда, прибегая к «самой безыскусной и заурядной метафоре», почти что буквально уклоняясь от прямой изобразительности, которая единственно здесь и уместна, и одновременно невозможна. Можно сказать, что эсхатологическая метафора «лона Авраамова» использована Самим Спасителем – но в Евангелии и в виде притчи (о богатом и Лазаре). Тем самым искусство нас возвращает в пространство Евангелия, не в силах вынести бремя эсхатологии. И это пространство узнаваемо: мы чуть заглянули за грань истории, став зрителями разыгранного средствами искусства драматического действа, имя которому «Страшный Суд», а теперь возвращаемся «домой», в пространство, где проповедуется Слово Божие, где Сын Божией пока еще закалается за грехи мира. Это уже знакомее нам литургическое пространство собора, вмещающее в себя и иконографию, понятую как путешествие по священным временам и срокам.
При этом очевидным образом остается за пределами внимания Маля и недоступным его подходу собственно архитектурные свойства собора как именно постройки . Специфические готические элементы стиля практически им не анализируются, во всяком случае, они воспринимаются и воспроизводятся Малем с точки зрения их поэтического воздействия.
Но все аналитические недомолвки восполняется индивидуальным стилем описания с характерным для него поэтическим воодушевлением и нескрываемым эмоциональным подъемом. Чего стоят, например, его финальные характеристики главных соборов Франции!
Итак, для маля существенно следующее: 1. религиозные образы суть подобие иероглифов , то есть, священных знаков, доступных для чтения. 2. образ зеркала и зеркальная образность – это условие точного воспроизведения. 3. зеркальность сродни детству , когда столь неподделен интерес ко всему окружающему – и к собственному зеркальному отражению. 4. детство – восприимчивость и способность к обучению. А дидактика – это и доходчивость и популярность (в смысле народности). 5. Непосредственное воздействие на воображение и чувства , минуя разум – средствами зрения и слуха. 6. Проповедь как главное назначение соборной иконографии. 7. Гармония и радость – от созерцания и общения с трансцендентной красотой.
Важно заметить, что подобный уровень иконографичности достигается посредством допущения всеобщности, универсальности, единства («соборности») опыта восприятия – средневекового и современного, когда исчезает зазор историзма, а потому – и всякого непонимания. Не трудно заметить, что у Маля практически отсутствует всякого рода когнитивно-эпистемологическая проблематика, несомненное свидетельство чему – избранный им жанр эссеистически-поэтических заметок-очерков. Подобные художественные интенции самого метода в дальнейшем приводят Маля к поиску более адекватных, чем литургическая схоластика, источников для толкования собора. И такими оказываются, с одной стороны, практика духовного театра (для эпохи начальной 12 века), а с другой – новое индивидуальное, частное благочестие, связанное с использованием т. н. Andachtsbilder (эпоха позднесредневековая).
ИКОНОГРАФИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ АРХЕТИПОВ
Но может ли архитектура быть не просто иллюстративным средством для передачи внеположенных ей истин и идей, пусть это даже и образы, посвященные архитектуре (например, видение Небесного Иерусалима)? Не обладает ли она особыми внутренними изобразительными ресурсами?
Краутхаймер начинает свою эпохальную статью «Введение в иконографию архитектуры» (1942) с напоминания о витрувианской триаде и ее очевидной необязательности для средневекового зодчества. Причина тому – первенствующая роль в этом самом зодчестве смыслового элемента, имевшего характер символического значения, о котором только и повествуют средневековые источники, а вовсе не о конструкции сводов (имеется в виду, конечно же, аббат Сугерий). Именно это должно быть предметом «иконографии архитектуры как части церковной археологии.
И тут же выясняется, что средневековые описания построек (в них узнается целый жанр еще античного экфрасиса) – это одновременно и исходный пункт рассуждений и наблюдений Краутхаймера. Стоит обратить внимание, что перед нами принципиально новый по сравнению с Зауэром и Малем источник – и более исторический, и более поэтический, и, что самое существенное, более родственный иконографическому методу, в котором момент описания принципиален. Это тоже своего рода словесная репродукция, способная, впрочем, воспроизводить разные вещи.
Но судя по этим самым описаниям, касающимся многочисленных архитектурных копий, для средневекового человека сходством обладали постройки, которые для нас вовсе не кажутся похожими друг на друга. То есть, для средневекового человека, взирающего на то или иное здание и подбирающего для своего зрительного опыта словесные эквиваленты , существенны были элементы, таковыми для нас не являющиеся или не значащие для нас того, что они обозначали тогда.
И дабы разобраться в этих «принципах сравнения», Краутхаймер выбирает многочисленную группу памятников (5-17 вв.), восходящих к одному прообразу, весьма специфическому и уникальному – к иерусалимскому Храму Гроба Господня. Обращение только к нескольким копиям уже вынуждает сделать вывод, что «различия перевешивают сходство».
Промежуточный вывод Краутхаймера выглядит так: «создается впечатление, что в Средние века определяющими были иные подходы и критерии архитектурных копий». Другими словами, функция архитектонических форм – в опосредовании некоторого конкретного значения, и условность, приблизительность в воспроизведении внешних свойств этих, так сказать, архитектонических указателей-ссылок, никого не смущала.
Именно число представляется наиболее действенным посредником между оригиналом и его репродукцией. Впрочем, эта же функция закреплена и за другими элементами, собственно за архитектурными формами как таковыми (колонны, обходные галереи и так далее). Это подлинно ключевые элементы, «отмыкающие» тот или иной запас значений и просто регулирующие внимание и направление мысли. Они и только они принимались в расчет в практике копирования благодаря своей способности воздействовать на сознание, на мыслительные и ассоциативные возможности зрителя.
Но и в миниатюре действует тот же прием «разложения модели» и ее перегруппировки, что соответствует отношениям между оригиналом и копией. «Большинство элементов прообраза налицо, но соединены они совсем иначе». Другими словами, процесс копирования архитектурного оригинала соответствует принципу его воспроизведения, изображения вообще.
На самом деле воспроизведение Анастасис – это приобщение к опыту конкретного евангельского места и данного события. Иначе говоря, и оригинал, и копию объемлет смысловой контекст, к которому и обращены мысли и помыслы заказчиков, строителей, толкователей и – в идеальном случае – исследователей того или иного сооружения.
Говоря соответствующим языком, понимание смысла практики копирования возможно лишь с учетом общего интенционального поля, заряда этой деятельности. Внутри этой целостности отношение оригинал/копия будет только частным случаем, производным практики богопочитания, богослужения и благочестия. И, в конце концов, Краутхаймер приходит выводу: общим элементом, который связывает и оригинал, и копию даже в случае «сходства по именованию», иначе говоря, «элементом» объединяющим оказывается ни что иное, как memoria, то есть воспоминание именно «почитаемого места».
Постепенно Краутхаймер приходит к понятию «иконографический строительный тип», за которым он закрепляет именно ассоциативный механизм, что означает параллелизм архитектурных и смысловых процессов и их пересечение исключительно в сознании зрителя, склонного к ассоциациям. Это весьма важно обстоятельство, что для автора иконографии архитектуры концептуальная подоплека предлагаемого им метода носит, так сказать, номиналистически-лингвистический характер.
Это заметно на примере обсуждения проблемы баптистерия, исток которого – архитектура римских погребальных сооружений, мавзолеев со всем разнообразием их вариантов. Именно смысловой элемент играет решающую роль: обряд Крещения – это то же омовение, но не тела, а души, и не от материальной нечистоты, а от грехов. Более того: если это буквальный смысл, то дополнительный – он же мистический – это отождествление Крещения со смертью и погребением, согласно соответствующему месту послания апостола Павла к Римлянам (6, 3-4). А где погребение ветхого Адама – там и воскресение нового, во Христе Иисусе. Отдельная проблема – носитель упомянутого крещально-мистериальной символизма. Из текста Краутхаймера видно, что для него единственно возможное место появления и хранения смысла – голова человека. В само сооружение смысл привносится актом толкования, которому предшествует восприятие памятника, буквальным образом сориентированного на память, на припоминание некоторых экзегетических истин.
В этом смысле особый интерес представляет собой поздний текст 1987 (Послесловие к немецкому изданию сочинений по истории архитектуры), в котором Краутхаймер позволяет себе известные теоретические рассуждения на тему смыслового анализа архитектуры. Интересно его отношение к иконологии, которую он справедливо представляет альтернативой «иконографии архитектуры» и оценивает не совсем положительно, хотя и оговаривается, что patres, то есть те же Варбург и Панофский, конечно же, не совсем виноваты в грехах паствы, которая (и это для Караутхаймера не есть хорошо), вольно или невольно, «всему придает смысл». Как подчеркивает Караутхаймер, единственным относительно достоверным свидетельством смыслового замысла, то есть смысла, вложенного в постройку еще на стадии проекта, является как раз случай копирования. Вдобавок, кроме осознанных коннотаций (замысел, программа, описание и так далее), существуют и уровни смысла, которые просто не вмещаются в строго конвенциональные рамки жанра средневекового экфрасиса.
Итак, несколько обобщений. 1. У Краутхаймера понятие «архитектурного типа» сродни понятию «исторического стиля», понятого в чисто формальном плане, как обобщающая, таксономическая характеристика именно формальных особенностей. 2. Этим отдельным элементам ставится в соответствие некоторый набор спекулятивно-аллегорических идей, связанных, как правило, с областью религии и мифологии. 3. Но так как и идеи, и элементы мыслятся отдельно, вне соответствующего контекста, то единственным способом их связать оказываются языковые ассоциации. Как не трудно догадаться, эти готовые фразы могут говорить лишь о столь же готовых идеях. Так замыкается этот даже не герменевтический, а скорее иконографический круг, выход из которого может быть только радикальным – через оставление подобной, если можно так выразиться, «архитектурно-символической лексикографии».
Наконец, существует проблема иконичности, а значит, и иконографичности архитектурного образа: ведь если позади христианской архитектуры есть лишь античная архитектура, то, следовательно, отсутствует специфически христианская иконографическая ситуация, ибо отсутствует прототип, прообраз в смысле нерукотворного образа. Остается, так сказать, вертикальная иконографичность, отношение с прообразом трансцендентным, внеисторическим, путь к которому – через сознание, богослужение, экклезиологию. Но эта тематика разрабатывается, как мы видели в рамках иных методологий, обходящихся и без иконографии, и без самого искусства…
В этом смысле показательна очень поздняя статья нашего автора «Пути и заблуждения в позднеантичном церковном строительстве» (1980), посвященная ревизии всей концепции «иконографии архитектуры». В этой статье обсуждается римская церковь Сан Стефано Ротондо, в 1942 году признанная очевидной копией Анастасис. Теперь же этот тип помещается в совершенно иной контекст, связанный с переосмыслением всей архитектурной практики. Раннехристианские зодчие той же констатнтиновской поры мыслятся как прямые пользователи античной архитектурной типологии, античного архитектурного языка, которые они приспосабливали, зачастую экспериментируя, к нуждам новых заказчиков. Способ приспособления старых типов – их перегруппировка, то есть, комбинаторика, которая чаще всего дает примеры вполне удачные. Пример – базилика, то есть тип вытянутого пространства, собрания молящихся и места аудиенции (в базилике Краутхаймер видит отголоски и дворцовой архитектуры).
Но возможны примеры и менее удачного экспериментирования и более рискованного проектирования, пример чему – центрическая типология, мало приспособленная к литургическому функционированию. Тем более, что происхождении этой типологии – не только мавзолеи, как думал Краутхаймер прежде, но и т. н. «павильонная архитектура» дворцов и вилл, где сознательно культивировался игровой подход, ориентированный на образованную публику. Решающее обстоятельство, отсылающее Сан Стефано Ротондо к этому типу – местоположение церкви, расположенной в пригородной зоне среди прочих вилл, нимфеев и проч. Такого рода топография напрочь снимает всякую сакральную проблематику, целенаправленно обмирщая ее и заменяя достаточно условными культурно-психологическими выкладками. Такова цена не определенной и не осознанной иконичности: не вертикаль прообраза, а горизонталь параллелей.
Заметим при этом, что топография предполагает путь, движение, быть может, и сквозь архитектонику, и сквозь культурно-исторический, земной путь самой архитектуры – все к той же Анастасис. Другими словами, и погребальный, и мемориальный характер подобного рода архитектуры вовсе не исключает тему оживления, воскресения в новой вере старого, ветхого наследия, хотя бы его «крещения», обновления.
Тем не менее, пример интерпретации Сан Стефано показывает ограничения лексикографически-иконографического подхода, понятого как выявление внутренней, так сказать, «иконографичности» того или иного архитектурного вокабулярия (возможности выстраивания на его материале отношений оригинал/копия).
Отсутствие иконографического ряда или невозможность вписать конкретный памятник в известный ряд в силу его уникальности выводит его из сферы действия иконографического метода, как его понимает Краутхаймер, лишает его иконографической ценности, но никак не умаляет. Если у памятника нет внутриархитектурных (типологических) связей, если он уникален по той или иной причине, то его локализация внутри истории архитектуры оказывается затруднительной, и приходится говорить о заблуждениях истории архитектуры (памятник оказывается буквально на обочине этих путей). Потому-то и привлекается топография и социология.
И все эти затруднения коренятся, повторяем, в фундаментальных теоретических принципах, принимаемых данным вариантом иконографии без обсуждения. Самое здесь важное – это оперирование категорией архитектурного типа, понятого чисто морфологически и чисто таксономически (тип как результат типизации и тип как аналог композиционной схемы). Второй теоретический постулат, практически не обсуждаемый Краутхаймером ни здесь, ни в других текстах, – это, так сказать, лексикографический подход, признак которого – так часто используемое понятие «вокабулярий». Можно сказать так: потому что топография (описание места) не стала топологией (интерпретацией пространственных структур и отношений), поэтому иконография не превратилась в иконологию, хотя и предприняла ряд движений в этом направлении.
Ведь от сознания – архитектора, заказчика, иконографа – никуда не деться. Несомненно, существует проблема архитектурного сознания, мышления, пользующегося архитектурным языком. Что можно рассматривать в качестве ключа уже к этому сознанию, что свидетельствует о структурах этого сознания, если принимать архитектурные постройки за документацию ее деятельности, ее, так сказать, внешние результаты? Ответ почти очевиден: видимо, проективные формы этой архитектуры, то есть иконография архитектуры в другом смысле слова: иконография как уже предмет, а не инструмент иконографии.
Хотя, несомненно, следует помнить, что эту самую двухмерность, проективность можно и нужно рассматривать не только как производный, конечный результат архитектурной деятельности. Проект, эскиз способен предшествовать постройке: архитектура начинается на бумаге или на холсте, то есть в двухмерном состоянии и иногда в таком состоянии и остается – по тем или иным, иногда очень существенным и показательным причинам. Замечательно, что Краутхаймер сам прошел этой методологической стезей в еще одной своей эпохальной статье, сыгравшей примерно ту же роль, что «Введение в иконографию…», но уже в области изучения проблем ренессансной живописи. Это «Scena tragica и scena comica в эпоху Ренессанса…» (1948). «Иконографична» сама формулировка задачи данной статьи – «объяснения предмета» изображения, то есть, того, что изображено на двух знаменитых ведутах – из Урбино (с архитектурой в ренессансном вкусе) и из Балтимора (с архитектурой античной, римской). Идея Краутхаймера заключается в том, что это образцы (чуть ли не первые) ренессансной сценографии: эскизы (проекты) двух типов сценической декорации – scena tragica и scena comica (включающих в себя соответственно архитектуру классическую и современную).
Принципиальный момент заключается в том, что в данных произведениях тоже ведется игра разными типами, но теперь – иллюзорного пространства театрального действа (той же игры!), где топосам (типу сцены) соответствуют модусы (жанры литературные). Лексика дополняется поэтикой, ведь использование (изображение) архитектурных элементов (мотивов) есть интерпретация архитектурного вокабулярия и, следовательно, стоящей за ним традиции (античности). Результат этих построений – изображенное и проинтерпретированное пространство (место), то есть реальность. Другими словами, перед нами – наглядная документация отношения к архитектуре как таковой, и, соответственно, отношения к той же реальности (во всех ее проявлениях) со стороны самой архитектуры. Выражаясь чуть более лапидарно: ситуация использования образа архитектуры – свидетельство того, каким образом относятся к архитектуре и как она относится к реальности.
В конце концов, мы убеждаемся на примере живописи, что объект может стать образом и что, казалось бы, чисто архитектурные, строительные отношения тоже строятся по принципу создания образа-заменителя, которым можно играть, но который, между прочим, и сам не прочь позабавиться с собственным неосторожным «пользователем».
Практическая методика Краутхаймера всегда сводится к описанию типологии, тип – элемент «первичного членения» этого архитектурного языка, из чего следует довольно неприятный вывод о невозможности создания нового языка для новой семантики или новой исторической ситуации. Вся архитектурная деятельность – только комбинаторика готовых элементов и их вариантов. Исследуется только ситуация возникновения новых сочетаний элементов, но никак не самих элементов. То есть это, несомненно, и классицизирующая методика, имеющая дело только со всякого рода наследием, тезаурусом и, так сказать, его узусом. Как представляется, архитектор просто пользуется несколькими словарями, и его деятельность сводится к деятельности переводчика, пересказчика, а может быть, и «переписчика» некоторого текста.
Потому-то возможны и возражения Краутхаймеру. Ведь чем заметнее разница между прообразом и его «отобразом», тем существеннее становится смысл повторения как такового. «Модификации возникают не от технической неспособности к точной репродукции, а по причине обязательной дистанции, которая должна быть между образом и прообразом, чтобы последний таковым оставался», - как совершенно справедливо и тонко замечает один современный критик Краутхаймера (В. Шенклун). Иначе говоря, особый смысл заключен в отклонении от прообраза: изменения обладают собственным значением.
Итак, казалось бы, найдены изобразительные и, значит, иконографические ресурсы самого архитектурного сооружения, способного вступать в отношения, подобные тем, что царят в иконописи. Но источник смысла – интенции и установки человека, а не самого памятника. Можно ли сохранив предметность самого сооружения, одновременно найти и внутренние, имманентные источники архитектурного смысла?
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИКОНОГРАФИИ
Достаточно признать за сакральной образностью функцию сообщения и наличие устойчивых правил хранения и воспроизведения этой информации, как мы тут же оказываемся вынуждены признать за иконографическими свойствами изображения языковые качества, а саму иконографию – рассматривать как разновидность визуальной лингвистики. Эти тенденции наблюдались уже у Маля (сакральное изображение как подобие книги, которую надо уметь читать). Краутхаймер широко пользуется лингвистическими терминами (архитектурная лексика-вокабулярий и конструкция-синтаксис), но последовательная реализация в рамках иконографического метода подобной языковой парадигмы – это, несомненно, заслуга Андре Грабара и его весьма показательного сборника «Христианская иконография. Исследование ее истоков» (1962).
Предмет изысканий Грабара – палеохристианское искусство, которому задаются два основополагающих вопроса: почему палеохристианские образы выглядят так, как они выглядят, другими словами, как они составлялись, что на уровне религиозном, предполагает ответ на вопрос, каким целям служили эти образы в момент своего создания? Процесс формирования иконографии Грабар намерен отделить от самих иконографических тем и не касаться первого вопроса, остановившись именно на темах и на памятниках, – им соответствующих и их иллюстрирующих, выступающих одновременно как «характерные или просто важные факты». Другими словами, перед нами постулат первичности тем и вторичности «манеры», когда раннехристианские художники могли просто не думать о том, как изображать. Иконографически темы выглядят как законченные группы образов, которые представляют собой «отражение» бóльших реальностей (например, богословия).
Фактически, художники имели дело со стереотипами, которые, тем не мене, не отрицали момент творчества, где, однако, преобладали процессы припоминания, а не воображения. Возникавшие образы были двоякого рода: они могли быть чисто информативными или обладать еще и экспрессивными свойствами. Только в последнем случае можно говорить о художественных образах. Но иконографию интересуют как раз образы информативные, так как иконография – это прежде всего «информативный аспект образа, адресованный интеллекту зрителя, и он един как для прозаических информативных образов, так и для образов, которые приближаются к поэзии, то есть для образов художественных». Поэтому иконография фактически выпадает из области истории искусства.
Промежуточный вывод из теории Грабара выглядит так: образ – это некая пустая схема (эйдолон), заполняемая «темой» – по ситуации и по назначению. С другой стороны, образы действуют как накопители значений, причем только под взглядом интерпретатора смысловые слои оказываются прозрачными. В лице Грабара иконография, как нам кажется, исчерпала свои концептуальные и эвристические возможности, почти вплотную приблизившись к риторике, используя лингвистические понятия почти исключительно в декоративных целях.
В последующем Грабар уточняет свою теорию. С точки зрения формы, по мнению Грабара, мы имеем дело с «иконографическим языком схематических образов или знакообразов». Содержательная сторона этих знакообразов определяется тем обстоятельством, что они – часть христианского погребального искусства и «репрезентируют спасение или освобождение того или иного верующего, которого Бог избавил от страха смерти». Одновременно они напоминают о «доктрианальных заслугах» умершего (то, что он был крещен и участвовал в Евхаристии).
Это не образы чего-либо, способные представлять, репрезентировать что-либо, а своего рода «приглашение», адресованное «информированному зрителю», чтобы он все отдельные черты того или иного подразумеваемого объекта, события, лица собрал воедино самостоятельно, дабы произошла «индикация» предмета обозначения.
Но раннехристианские образы (их можно разделить тематически и функционально на сотериологические и сакраментальные) украшали катакомбы и были предназначены для такого адресата , которого нет в том же пространстве, что и пространство образов. Умерший воспринимает адресованное ему сообщение через посредников – через живых, присутствующих в пространстве катакомб. Впрочем, умерший отчасти остается с общиной своим телом. Это заставляет нас иметь в виду еще одного посредника, предваряющего психологию отдельных индивидуумов. Речь идет о пространстве и о его, прежде всего, телесном наполнении, что в контексте христианской мистериальной практики предполагает в качестве исчерпывающего наполнения этого пространства именно Евхаристию.
Пространственно-архитектурные параметры иконографии проявляются и в вопросе соперничества христианской и иудейской образности во 3 в. Мы вынуждены анализировать пространство катакомб и баптистериев – мест не вполне «полноценных», не совсем законченных с литургической точки зрения. Это только обещание, предвосхищение, пока лишь образ сакрального пространства, требующего своего дальнейшей, уже храмовой реализации. Синагога – это уже не храмовое пространство, это пространство, заменяющее утраченный Храм. Иначе говоря, в самом сердце всех этих иконографий лежит образность просто другого порядка: образность пространственная, храмовая, литургическая и прямо не доступная. Но это и другой механизм смыслопорождения, связанный с опытом непосредственного участия в происходящем, соучастия в совершаемых действиях, и в смыслах, этими действиями являемых.
Но это еще невнятный, плохо артикулированный язык архитектурного пространства, подбирающего себе лексику из близлежащих областей, не обладая при этом еще даже полноценным языковым носителем. Таковыми пока остаются стены внутреннего пространства катакомб и внешние стенки объемов саркофагов. Это еще не архитектура, но ее обещание и предчувствие, выраженное средствами смежных искусств.
Еще один существенный повод вспомнить архитектуру – это ситуация 4 века, т. н. «императорское вторжение» в христианское искусство, очевидное иконографическое обогащение которого связано не только с расширением тематики, но и с тем обстоятельством, что теперь воспроизводятся «реальные церемонии» императорского дворца, которые художники могли непосредственно наблюдать.
Наконец, следует вспомнить и такую архитектурно-пространственную среду как загородная вилла, которая обеспечивает привязку иконографической системы к определенному месту. Это уже знакомая нам смыслообразующая локализация . Прежде это были катакомбы, составлявшие вполне определенный смысловой контекст, затем императорский дворец, а теперь – загородная вилла. То есть, всякая перемена в изобразительном строе искусства оказывается связана с определенном топосом, местом, которое, так сказать, хранит смысл по той причине, что в этом месте присутствует, наличествует человек. Каждое из этих пространств характеризуется конкретными обрядами, ритуалами, совершавшимися в нем с участием человека и составлявшим непосредственное их содержание, буквальное их наполнение, символически-прагматическое по своей сути. И самое главное, что это топографическое и топологическое движение смысла приводит нас к самым исконным, первичным уровням человеческого бытия, символизм которого питает все последующие образные и архитектонические структуры. И потому не случайно, что самые непосредственные образцы переноса этой «иконографии поместья» на иконографию сакральную связаны, во-первых, с пространством синагоги, а во-вторых, – со Святой Землей!
И столь же показателен отказ от аллегорической иконографии в живописи и пластике со стороны «византийских греков» в 6 в. Функции иносказания, то есть повествования об ином, берет на себя храмовая архитектура, где, как известно, в саму структуру смысла вложен мистериальный опыт литургического богооткровения «здесь и сейчас».
На самом же деле, архитектура всегда остается тем истинным «семантическим полем», вбирающим в себя все иконографические процессы, которые происходят на уровне той же живописи. Все частные смысловые контексты, присутствующие в иконографии, объединяются такими фундаментальными темами, как жизнь и смерть, земное благополучие и вечное спасение, то есть, сугубо экзистенциальными категориями.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СИМВОЛИЗМ АРХИТЕКТУРНОЙ ПРЕДМЕТНОСТИ
Итак, Грабар намечает принципиально новый подход, связанный с исследованием сакраментальной, мистериальной семантики архитектуры, рассматривая ее, впрочем, как всего лишь место священнодействия, то есть, практически как некое архитектоническое «наречие», практически служебную часть речи , предпочитая говорить об архитектуре косвенно. Но что, если мы будем рассматривать сакральную постройку именно с точки зрения ее специфической предметности, как материальный объект, прошедший освящение и, значит, принадлежащий уже сфере сакраментальной? Таков подход Георга-Вильгельма Дайхманна в его довольно свежей книге 1987 года «Введение в христианскую археологию».
Обозначенный Зауэром в конце своей книге скепсис по отношению к реальным возможностям искусства быть чем-то большим, чем просто материальным документом церковной жизни прошлого, у Дайхманна превращается в специфический концептуальный минимализм, в методологическую сдержанность и в специфическое недоверие ко всем теоретическим новшествам.
Для него, например, просто не стоит «проблема образа». Это буквально собирательное понятие , вбирающее в себя, концентрирующее в себе все то, что в него вносят извне. Такое представление об образе, на самом деле, очень удобно, если не вдаваться в подробности визуальной семантики как таковой. А Дайхманн этого не делает совершенно сознательно, уклоняясь от всякого рода языковых аналогий и беспощадно критикуя соответствующие тенденции современной теории архитектуры.
Постулируя зависимость дисциплины от материала, приходится признавать и зависимость данной науки от всех связей и особенностей этого материала, и если материал достаточно богат содержательно, то столь же богатыми должны быть и отношения той же христианской археологии к родственным дисциплинам, в чем, впрочем, как раз и таится угроза растворения специфики данной дисциплины. Поэтому Дайхманн вынужден указывать на разнообразие форм христианской археологии: это и культурная история, и вспомогательная дисциплина в рамках церковной истории, и история памятников. Но обязательно одно: все объединяет один единый объект, точнее говоря, его понимание как «материального проявления» христианской жизни, которая тоже имеет вполне объективный и объектный характер, а именно факт ее (этой жизни) организованности в общину .
А сакральное и мистериальное наполнение евхаристического пространства, представляющее собой определенное мемориально-мартирологическое места, локус, топос, – вот что есть истинное содержание раннехристианского культового сооружения. Более того, это есть содержание и всех тех процессов, что происходили с раннехристианской архитектурой, и в первую очередь процесса самого главного – именно происхождения, рождения, возникновения церковного здания как такового, его типологии и прочей архитектурной специфики.
Специфические соображения Дайхманна о принципиальной профанности раннехристианского благочестия, не нуждавшегося в материальном культе и пространстве, покоятся на том допущении, что невозможно совместить духовное и материальное, то и другое обязано существовать раздельно: если культ духовен, то он не материален. Материальное должно быть только профанным. Несомненно, перед нами специфический архитектуроведческий иконоклазм, не допускающий возможности образных отношений между священным невещественным и освященным – вещественным. Для Дайхманна не существует самого понятия Таинства, имеющего как раз освящающий характер и потому выстраивающий отношения между небесным и земным на основании символизма и аналогий.
За этим стоит, несомненно, определенная идейная и опять же духовная позиция, но в этом заключен и чисто методологический парадокс: археолог вынужден ополчаться на материальное, если такового просто не существует в его распоряжении по тем или иным причинам, в том числе и чисто историческим. Он вынужден обосновывать его отсутствие именно духовно, чтобы не остаться, так сказать, не у дел, лишившись материала для своих изысканий.
Перед нами довольно характерная теоретическая и методологическая модель: в бытии христианской церковной архитектуры существует момент, так сказать, доисторический, почти что нематериальный, чисто духовный (до 4 века). Начало же собственно исторического развития – это момент возникновения и формирования церковного строительства (начиная с 4 века). К первому периоду относится идейная, семантическая сторона дела, которая остается в силу своей внеисторичности неизменной смысловой инвариантой. История же – это только форма, которая подвижна и разнообразна, так как за ней стоит чисто человеческое творчество, свободное и, значит, произвольное. Религиозное и художественное начало разведены на максимально безопасное расстояние, позволяющее рассматривать их отдельно и независимо. А предложенное Дайхманном решение знаменитой проблемы происхождения церковного здания прямо следует из абсолютно сознательного разведения в разные стороны формы и функции.
Необходимо вкупе рассматривать саму пространственно-архитектоническую типологию (многонефное зальное пространство с эмпорами, перекрытое деревянными балками и предназначенное для вмещения большого числа людей) и окружающую среду (городской форум с идеологически и социально значимыми пространствами). А как же обстоят дела с центрическими постройками, где символизм и более очевиден, и более конкретен? Надо отдать должное Дайхманну, он не дает себя загнать в тупик подобным символизмом. Он прямо признает центрические постройки безусловной и полной инновацией, чистой воды изобретением христианского разума, «решающим шагом вперед в истории архитектуры».
Для Дайхманна проблема «архитектуры как носителя значения» связана с проблемой самой архитектуры, с ее непреодолимой в рамках археологического метода предметностью, вещественностью и материальностью, не оставляющих место для всякой непосредственной изобразительности, без которой, как представляется Дайхманну, невозможно говорить о всякого рода значении, начиная с самого первичного. Этот первичный смысл приближает интерпретатора к истокам смысла вообще. И один из таких истоков – это сознание человека, его представления, его мышление, его, в конце концов, вера, религиозное чувство, из которого происходит та или иная форма искусства, в том числе и христианского. Иначе говоря, для выяснения смыслового наполнения (семантической структуры) произведения, необходимо представлять процесс его изготовления, его создания. В случае с христианским искусством вопрос происхождения отягощен проблемой обоснования, оправдания этого искусства с точки зрения вероучения .
Только эпоха Константина Великого осуществила переход от «античного искусства с христианской иконографией, смешанной с языческими элементами» к искусству все еще античному, но обладающему уже «чисто христианской иконографией». И совершенно не случайно, что подобная тотальная христианизация стала возможной лишь при появлении «освященного христианского культового сооружения», в котором изображения превращались в структурный элемент сакрального пространства, в том числе и храмового. Прежняя символика не нуждалась в локализации, ориентации в пространстве, ибо она содержала его в себе. Именно мышление выражает себя в построении изображения, происходящего из императорского придворного, т. н. «репрезентационного» искусства. Отличительный признак такого изображения – наличием «в середине христологического события» и общее «иератически нарастающее единство».
Наличие в некоторых сценах архитектурных мотивов, а не просто скрытых архитектонических качеств позволяет говорить о «месте действия» всех подобных сцен, которые происходят в трансцендентном измерении, в Небесном Граде. Но почему жизнь будущего века обозначается архитектурой? Не только благодаря апокалиптически-эсхатологической теме, но и по изобразительно-репрезентационным соображениям, как воспроизведение храмового пространства и его заполнения. Возникающие таким способом «сценографические образы» – это основа не только изображения, но и воображения, причем в динамическом его состоянии. Предстояние пред алтарем и престолом – это особое состояние и тела, и души. И недаром центрически-иератические композиции – исток «образов поклонения», из которых происходит и иконный образ.
Но применительно к самой архитектуре проблема трансцендентной образности, то есть, переносного значения, выглядит более непростым, так как трудно выйти за пределы ее предметности, особенно в рамках археологического подхода. Архитектура получается, ничего не может обозначать, отсылать за свои пределы, то есть, быть знаком, средством референции. Таковое свойство демонстрирует лишь изобразительное искусство. Поэтому про архитектуру нельзя сказать, что она подлежит толкованию. Она предназначена лишь для прямого восприятия как всякий объект. Или, быть может, архитектура сама задает семантику изобразительного искусства, точнее говоря, его прагматику, выход в пространство, так сказать, окружающего мира?
На самом деле, толкованию подвергается то, что происходит в сознании зрителя-пользователя, каковым является и сам толкователь, а не то, что наличествует в произведении, ему присуще и в него вложено. Можно сказать, что переносный смысл рождается именно в результате перцепции и усвоения изображения, а не его изготовления. То есть, именно прагматика как выход в дополнительные сферы, прилегающие зоны бытования и функционирования изображения, и является средством различения буквального и переносного значения. Два топоса – буквальный и иносказательный – соединены тропом пользования, то есть применения и приложения образа. Фактически, храмовая архитектура оказывается сценой, то есть местом действия, которое активно перестраивает значение тех изобразительных сцен, что на нем (и в нем) выстраиваются. Именно архитектура организовывает восприятие, усвоение, просто встречу с изображениями в определенный момент, в определенном месте и в определенном состоянии. И благодаря подобной собирательно-символической функции архитектуры оказывается возможным соединять разные экзегезы, создавая сверхтекстуальную семантику .
Но именно чувствительность к буквальному смыслу позволяет той же археологии улавливать все подобные трансформации и переходы, которые могут быть вызваны и чисто изобразительными средствами, правда вкупе с архитектурными.
Но существует и более глубокий аспект архитектурного символизма, предшествующий всякой изобразительности и изобразительной стилистики. Архитектура способна, как известно, объединять разные стили изображения, отсылая к доиконическим своим параметрам, которые можно описать понятием «материальный стиль» (понятие Франкля), то есть способом обращения с материалом. В материальном стиле отражается и природное, материальное начало, но и идеальное, личностное, так как материал подразумевает свое преодоление волей и властью художника. Все подобное вновь выводит нас к самым сокровенным свойствам, аспектам, измерениям архитектурного образа. Архитектура способна демонстрировать и регулировать преодоление не только материальности, но и пространственности. Причем, как это не покажется странным, посредством телесности, телесных актов в широком смысле слова, включающим и сакраментальные действия, подразумевающие сверхматериальную размерность, например, евхаристических образов пространства и телесности, обращенных внутрь и человеческой персональности, и сверхчеловеческой Личности.
ИКОНОГРАФИЯ РИТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Поэтому интересно проследить еще один вариант иконографического подхода, представленного творчеством норвежского историка искусства Синдинг-Ларсена, в его книге «Иконография и ритуал» (1984). Предмет анализа в данном случае – это уже ритуальное пространство, которое определяется ученым как «пространство Богоприсутствия». Актуализация этого пространства и его соответственно заполнение участниками богослужения – вот что является содержанием сакральной архитектуры. Это пространство сенсомоторной и символической активности человека, включенного в целое большего порядка – религиозную общину, конгрегацию, Церковь. Так появляются социальные и семиологические темы в архитектурном символизме, что задает общий системно-иерархический характер любого иконографического процесса, связанного с Литургией. А все вместе, согласно Синдинг-Ларсену, – это единая модель человеческого поведения. Его наглядно культовые особенности можно распространить на все сферы социально-образной активности человека, в том числе и на научную деятельность . Немалая часть книги норвежского ученого посвящена как раз методологии иконографического анализа, что делает ее особо ценной.
Впрочем, за всеми вышеописанными методологическими вариантами иконографии не трудно заметить соответствующие общетеоретические основания: или сугубо богословские (Зауэр), или культурно-исторические (Маль), или психологические (Краутхаймер). У Дайхманна мы видим целый конгломерат установок, начиная со скрыто-теософских и вплоть до открыто позитивистских. Самый сложный случай – как раз Синдинг-Ларсен, где целенаправленно реализуется междисциплинарный подход с привлечением практически всех вышеперечисленных позиций с добавлением уже названной семиологии и социологии.
Согласно Синдинг-Ларсену структуру обновленной иконографии литургически-архитектурного дискурса можно представить следующим образом: 1. первичный функциональный контекст, 2. эмпирические параметры, 3. методологические модели. Первичный контекст образуют понятия богословия, Церкви, традиции и литургии. Богословие понимается в рамках католической (тридентской) традиции, главным аспектом экклезиологии является участие в таинствах, Евхаристии и присутствие в Церкви Св. Духа.
Внутри этих контекстов и совершается Литургия, она и есть центр иконографического пространства. Ее можно определить как «целостность культового поведения, предписываемого Церковью, и предполагающую говорение, декламацию и пение, равно как и движения, а также и использование специфических символов…». Ядро Литургии – вера в ее установление Самим Христом и Его участие в каждой Литургии, в Евхаристической Жертве.
Церковная традиция, включающая и Литургию, дает материал и идеи для дальнейшей разработки, уточнения и художественного творчества «в различных контекстах», начиная с профессионального литературного комментирования и заканчивая театральной драматургией и поэзией.
Все эти уровни активности внутри одной Традиции, перекрывающие отчасти друг друга, могут быть разделены на несколько самостоятельных категорий. В первой категории, именуемой «литературный или устный комментарий», присутствуют следующие позиции: 1. аллегорическое изъяснение и интерпретация Литургии; 2. литературный комментарий событий или концептов, прославляемых в Литургии; 3. комментарии на богословские концепты, не выделяемые самой Традицией. Вторая категория – «аудио-визуальная реализация/воспроизведение» – включает: 1. литургическую драму; 2. драматические добавления к Литургии и постановочные действия (собственно, «перформансы»), отсылающие к литургическому материалу; 3. драматическое развитие богословия. Взаимодействие между двумя категориями как раз и составляет аналитическую проблему каждого специфического материала.
Задача иконографии – служить Литургии, исполняя или формальные, или вспомогательные функции. Формальное функционирование того или иного образа определяется официальным предписанием его использования, хотя, по словам Синдинг-Ларсена, на практике трудно различать моменты обязательно-конвенциальные и иные.
Мы можем говорить, пользуясь терминами самого автора, о центральном и периферийном, литургическом и паралитургическом функционировании иконографии. Последнее объемлет все пограничные зоны ритуала, его пределы и метаморфозы как социального, так и психологического, но прежде всего – топологического, пространственного порядка. И поэтому именно в этой сфере следует искать и сугубо архитектурное функционирование иконографии, и сугубо архитектурную иконографию как таковую.
Задача книги Синдинг-Ларсена – описать иконографию в ее «отношении к Евхаристии как системе», что предполагает системный подход к иконографии, которая сама обладает системностью, что в данном случае звучит как синоним экклезиологичности и, так сказать, литургичности, соборности или кафоличности.
И решающим контекстом оказывается архитектурно-литургическая среда, «архитектурная церковь», которая, так сказать. отвечает за системную ориентацию изображения. Впрочем, никакое систематическое исследование не должно делать материал более системным, чем он есть на самом деле, потому что тогда ускользают нюансы, многозначность аффективных и социальных ценностей. Предмет литургической иконографии внутри общей системы лучше всего описывается как процесс , а не как константа или инварианта.
И по мнению Синдинг-Ларсена, начало методологического пересмотра материала – признание, что варианты и отклонения от иконографически-литургической системы – это сама суть литургической иконографии, ибо это признаки процесса интерпретации . Благодаря учету литургического процесса, иконография приобретает не дополнительное, а как раз основное измерения, и та же иконология оказывается всего лишь одним из ее аспектов.
Главное в том, что образы, которые даже функционально принадлежат канонически утвержденному и формализованному ритуалу, не могут трактоваться вне этого ритуала, предлагающего нам для нашего понимания «фундаментальные понятия и структуры». Существует контекст, обращающийся к нам изнутри ритуала, и мы должны описывать иконографию в терминах тех, кто ее создавал.
Более того, «принципиальная перспектива» всей книги Синдинг-Ларсена и, соответственно, всей обновленной иконографии – это «реконструктивный контекстуальный анализ», под которым следует иметь в виду «анализ исторической ситуации, исходя из ее собственной точки зрения, и в ее собственных терминах».
При этом, как подчеркивает Синдинг-Ларсен, опора на Литургию позволяет выяснить фундаментально исключительный характер каких-либо концептов и определяет каждое конкретное изображение безотносительно к любой художнической интенции, а восстановление непосредственно литургически-пространственной ситуации открывает путь к уяснению первоначального, исходного смысла изображения.
В иконографическое целое входят элементы двоякого рода: или отдельные образы, или программы, включающие серию образов. Отношения могут существовать между ними, или между ними и «внешним миром». Поэтому полезно выделять «внутренние» отношения и, соответственно, «внешние». К внешним относится и взаимодействие образов и программ с «архитектурной оболочкой», подразумевающей соответствующие литургические функции и интерпретации, а также людей, представляющих собой «пользователей» данной постройки и ее иконографического наполнения.
Причем речь идет не о техническом и исполнительском единстве, а сенсомоторном, возникающим не по факту создание изображения, а по факту его восприятия, усвоения, то есть, все того же пользования внутри архитектурного контекста. Анализ именно иконографических программ дает существенный прирост наших знаний о семантических свойствах архитектурной среды. Литургически значимая архитектура скрытым и явным образом присутствует внутри иконографии, задавая не просто компоновку тем, сюжетов, образов как таковых, и не просто порядок их прочтения и усвоения, а способ соприсутствия и соучастия зрителя-пользователя внутри среды, ориентированной на алтарь, престол и Евхаристию.
Именно архитектурная среда выявляет акт зрения как структурно-коммуникативный инструмент иконографических процессов, протекающих в литургическом пространстве. Взгляд – это сила, благодаря которой возводится целостная постройка, а материал для нее – отдельные визуально-сакральные образы, складывающиеся в определенные последовательности.
Даже отдельное, казалось бы, изолированное изображение именно своим иконографически-литургическим динамизмом объединяет пространство изобразительное и пространство, так сказать, тайносовершительное, оставляя при этом место и для человека. До сих пор, замечает Синдинг-Ларсен, ни традиционная история искусства, ни формальная литургика не могли предложить методы изучения таких феноменов, связанных с непосредственной референцией пространственных состояний .
Но существует и проблематика текстуальных референций, которые могут присутствовать в иконографии. так сказать, иконически, то есть, визуально, в виде надписей, сопровождающих образ и наглядно обозначающих его отсылки к текстам самых разных категорий. Это, так сказать, иконографические тексты в буквальном смысле слова, и их можно разделить на литургические, библейские , традиционные и синоптические. Литургические надписи, присутствующие в изображении – все те же знаки божественного присутствия в Литургии.
Синдинг-Ларсен предлагает трактовать литургическое пространство архитектуры в «пределах формально-функциональных ценностей и, исходя из этого, – в терминах собственно символических». Более того: это пространство должно быть активизировано и совершается эта активизация, подобно электромагнитному полю, через взаимодействие человеческого, архитектурного и иконографического «оборудования». В общем же виде литургическое пространство имеет иерархическое членение, в котором выделяется собственно престол и само здание. Каждой из названных структур соответствует целый набор смысловых инстанций-измерений, в свою очередь предназначенных для интерпретации – символической и аллегорической. Интерпретация – это продолжение коммуникации, то есть, форма участия в совершаемых действиях, способ присутствия в значимой символической среде .
Поэтому полезно рассматривать отношение иконографии к подобному пространственному окружению в двух аспектах. Во-первых, это т. н. «простое отношение», которое проявляется, например, в пространственном соседстве картины и алтаря без учета точки зрения, заданной внешним наблюдателем, будь то молящиеся в нефе, или в хоре. Второй тип отношений – «отношение обусловленное», которое устанавливается между иконографией и архитектурным пространством и которое зависит от точки зрения наблюдателя и обусловлено частично мотивировкой его вхождения и пребывания в данном помещении.
Поскольку Литургия – это не только идеи, представления и переживания, но и ритуал, священнодействие, в терминах, так сказать, сакраментально-ритуальных необходимо тоже описывать иконографию, понимание которой расширяется, если учитываются такие моменты как совершение Таинства и участия в нем. В ритуальном контексте образы следует обозначать как процессуальные, имея в виду не только процессии и использование в них образов, но и процессы, прежде всего – коммуникации, в которых образ предстает как сообщение, как передачу значения.
Важнейшая сторона все того же иконографического анализа, имеющая к тому же принципиальнейшие методологические измерения, – анализ разного рода типов и типологий, присутствующих в изображении. Синдинг-Ларсен сразу оговаривает очень важный постулат: иконографический тип – это, на самом деле, тип морфологический. А его определение должно звучать так: «некоторый предмет или сюжет, изображенный или оформленный с целью передачи одного или нескольких специфических сообщений». Бывают случаи, когда разные морфологические типы используются для одной и той же референции и когда одно иконографическое решение служит различным контекстам, которые напрямую «ассоциируются» с неким единым сообщением, релевантным всем этим контекстам. Причина в «сквозной теме» – в том, что, что сама Небесная Литургия все объемлет, невзирая на детали и различия…
Но анализ типологии должен строиться и на функциональной основе, а не на одной только морфологической. Поэтому понимание иконографического типа возможно только в литургическом контексте и ни как иначе. Пользователи вместе с иконографией формировали особую метасистему ритуальных действий и ритуальной, обрядовой действительности, представляющей собой наиболее емкий аспект иконографии, ее самое значимое и наиболее значащее «измерение».
Но иконографические процедуры суть те же ритуалы, но только когнитивного, а не социального свойства. Какие же из них предпочесть? Те, что обладают действенностью , эффективностью в человеческом существовании, представляя, тем самым, не только познавательную, но экзистенциально-религиозную и общинно-общественную, коммуникативную («общительную») ценность. Можно сказать, что в этом состоит главный пафос всей книги Синдинг-Ларсена и, пожалуй, самых принципиальных ее частей, посвященных «ритуальным измерениям» не только иконографии, но и всей христианской образности и изобразительности.
Однако изобразительная иконография может быть расширена и до иконографии сверх-изобразительной, сохраняющей главные параметры всякой, как выясняется, иконографии: привязка к месту, фиксация присутствия и функция приобщения к сакральному пространству через вовлечение , воздействие. Этим обрисован самый каркас такой иконографии архитектуры, которая способна описать все аспекты и функции этого вида искусства как активного и динамического процесса не только построения пластических масс, не только выстраивания типологических элементов, но и «встраивания» внутрь их пространства, среды – сверхзначимой, сверхнаполненной и сверхценной, ибо активно воздействующей – и эмотивно, и когнитивно и, так сказать, оперативно.
Иконография системна, но коммуникативность иконографии означает и нечто особое: она имеет также и специфический методологический аспект, предполагающий контакты этой системы с системой другой – с научной традицией истории искусства .
Положительная аналитическая программа иконографии звучит так: «всецелый учет дискретных единиц <…> или последовательностей с точки зрения художественно-исполнительских или пространственных качеств, которые в свою очередь стремятся превратиться в концептуальные или эмоциональные символы». Из этой дефиниции иконографии вытекает ее принципиальное несходство с языком, который как специфический медиум состоит из предписанных временных последовательностей, тогда как иконография зафиксирована в пространстве и ее значение ей только приписывается, но не предписывается даже иерархически. Иконография лишена грамматики и синтаксиса, а значит – и «глубинной структуры», в ней нет такого набора правил, как в языке, но за счет этого она более открыта в окружающую среду и более подвержена социальному воздействию.
Но с точки зрения условий порождения значения в иконографии все усложняется тем обстоятельством, что «изображения представляют собой обычно “подлинник”», который воздействует как индивидуальный, уникальный объект, относящийся к «конкретному месту и специфической ситуации». Характерным примером такого рода является чудотворный образ или освященная гостия, а также всякое изображение, с которым можно вступать в индивидуальные отношения посредством, например, эмоционального переноса.
И подобные качества священного образа можно описать как «колебание между материальным и спиритуальным», что доступно зрению и только через зрение, что отсутствует и не доступно в модальности языка и письма. В целом же аналитическую систему следует оценивать не с точки зрения ее истинности, сколько продуктивности, которая предполагает целый набор признаков. Продуктивная модель способна адаптировать новые эмпирические данные или открытия, видоизменять, расширять или повторно адаптировать всякого рода добавления в первичные фактические ресурсы или восстанавливать свою целостность, если новый материал подверг разрушениям первоначальную модель. Наконец, система должна постоянно порождать новые теории, способствующие обнаружению нового материала .
Итак, анализ – это креативная процедура, направленная на порождение особых образов того, что подвергается анализу. Эти образы содержат в себе «ссылки» на те смысловые контексты, что стоят за предметом анализа, но служат они интересам тех, кто занят анализом. Но в силу системности самого предмета анализа, аналитик не в состоянии отделять себя от предмета своего интереса, и его интересы вступают во взаимодействие с интересами тех, кто создавал ту же, например, иконографию. Ученый исследователь становится частью того, что он анализирует, и подобная трансформация заложена в самой сути познавательной деятельности , которая как всякая деятельность, определяется участием, компетенцией и целями.
Итак, иконография – это то, что заставляет участвовать не только в обрядах, но и в понимании. Совершается ритуализация самого познавательного процесса, который оказывается процессом идентификации и ориентировки в готовых контекстах. Задается, подчеркивает Синдинг-Ларсен, «наша аналитическая стратегия», цель которой – реконструкция. Начало иконографической аналитики – «концептуальная фокусировка на Боге», выбор Его в качестве цели понимания. Принципиальный момент состоит в том, что иконографическая система способна стать «полем деятельности» пользователя, «вторжение» которого выводит ее из равновесия, обретаемого вновь посредством выбора некоторого определенного ответа на сомнения, возникающие по ходу, прежде всего, рассматривания, то есть, зрительской активности участника.
Методологический вывод из этих, казалось бы, столь чуждых истории искусства концептуальных раскладов мало с чем сравним по своей фундаментальности: «ситуацию невозможно определить извне: это есть когнитивный и поведенческий конструкт, который мы, исследователи, в порядке реконструкции, призваны приписывать или “деятелю”, или “участнику” в зависимости от той формы активности, что возбудила наш интерес». Итак, если иконография – это та же «ситуация», то тогда степень ее постижимости прямо зависит от степени включенности в нее интерпретатора.
При желании, подход Синдинг-Ларсена можно назвать семиологическим и структуралистским хотя бы по причине активного использования коммуникативной парадигмы. Идея коммуникации помогает ему рассматривать иконографию динамически и как предмет рецепции со стороны самых разных инстанций, прежде всего – участников Литургии, которая тоже есть коммуникация. Система разнообразных актов взаимодействия образует то самое силовое поле, которое выступает и как поле семантическое. Что в него возможно еще включить, чтобы картина обрела трехмерность? Видимо, момент исполнительский, то есть, сугубо художественный, связанный с использованием архитектуры и как инструмента, и как отчасти цели коммуникативных актов. И это уже будет своего рода поэтика иконографического дискурса, тогда как Синдинг-Ларсен по большому счету – это только риторика, прагматика использования литургической иконографии.
И здесь, несомненно, требуется повторное внимание к архитектурной форме, которую можно понимать и типологически, как устойчивые «фигуры» архитектурной «речи», и которую необходимо воспринимать иносказательно, наподобие притч, то есть, как параболы, пример использования и усвоения которых дает нам самый главный текстуальный источник всякой христианской иконографии – Св. Писание, особенно, Евангелие. Не является ли архитектурная типология все той же системой «семантических универсалий», знакомых нам благодаря трудам Анны Вежбицкой?
Создается впечатление, что иконография способна просто элиминировать, упразднять архитектуру, сводить ее к все той же образности, пусть и аиконичной. Как это напоминает Зауэра, которому под конец его книги стала очевидной ненадобность сакральной архитектуры! Примерно тоже самое – у Дайхманна, имеющего даже богословское обоснование ненужности сакральной архитектуры. Случайно ли у столь разнородных авторов такое единодушное сомнение в архитектуре? Видимо виноваты не они, а сам иконографический метод, который стремится свести трехмерные, стереоскопические ценности к плоскости, к сугубо визуальным качествам, стараясь приблизиться и уподобиться своему источнику и идеалу – тексту и письму, предназначенному для чтения, а не для переживания.
Поэтому не случайно у двух из разобранных нами авторов присутствует более положительный образ сакральной архитектуры. У Краутхаймера это вызвано тем, что источник архитектурного смысла у него связан с самой практикой возведения постройки и исходит из человеческого сознания, из области памяти, к которой обращаются и заказчики, и авторы программ, и художники-исполнители. У Маля сам готический собор представляется почти что субъектом смысла, устремленным к другому субъекту, которым оказывается вовсе даже и не зритель, а слушатель, ибо для Маля собор – это проповедь в камне, пространство звучания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И достаточно обратиться, например, к такому жанру античной и средневековой литературы как экфрасис, описание архитектурных сооружений, чтобы обнаружить, что субъективизм и эмоциональное переживание архитектурного целого включается в структуру архитектурного опыта. Поэтому возможно обозначить, по крайней мере, две перспективы расширения иконографического подхода: в сторону неокантианской преимущественно иконологии (Бандманн) и в сторону феноменологической герменевтики (Норберг-Шульц). Но иконографическая модель смыслового описания архитектуры остается основополагающей. Это тот фундамент, на котором возводится уже трехмерная, стереометрическая модель сакрального архитектурного символизма.
1. Архитектура как икона // Иконография архитектуры. Сб. статей. М., 1990 (1,5 а. л.).
2. «Возникновение собора» и возрождение науки // Искусствознание. 2/99 (5 а. л.).
3. Пределы смысла и границы пространства. Проблемы интерпретации архитектуры в искусствоведческой рефлексии переходного периода // Искусство и наука об искусстве в переходные периоды истории культуры. М., 2а. л.).
4. Искусствознание как наука и поэзия. – Российский исторический вестник, т. 3, 2а. л.).
5. Храм и Грааль в Западном средневековье // Храм земной и небесный. М., 2а. л.).
6. «Бандманн» // Православная Энциклопедия, т. 5 (0,2 а. л.).
7. «Бялостоцкий» // Православная Энциклопедия, т. 5 (0,1 а. л.).
8. «Варбург» // Православная Энциклопедия, т. 6 (0,2 а. л.).
9. Иконология архитектуры Гюнтера Бандманна // Искусствознание, 1/2004 (ок. 0,55 а. л.).
10. Интенция, экзистенция и гений места // Искусствознание, 2/2004 (1,95 а. л.).
11. Пустующий трон. Критическое искусствознание Ханса Зедльмайра. М., 2004 (Глава 3 – 4 а. л.).
12. Рихард Краутхаймер или Возвращение торгующих // Православная иконология: итоги и перспективы. Сб. статей. СПб., 2005 (1,5 а. л.).
13. Иконография архитектуры Рихарда Краутхаймера // Искусство христианского мира, вып. 9, М., 2а. л.).
14. Симвология, археология, иконография и архитектура. М., Изд-во МГУ, 2006 (Монография 22,75 а. л.).
15. Архитектурный символизм и иконографический метод // Вестник МГУКИ, № 1, 2007. (0,4 а. л.).
16. Архитектура и иконография. Проблемы классических методов истории искусства // Вестник МГУ, № 2, 2007 (0,75 а. л.).
Искусство Древней Индии постепенно сложилось как синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Оно, разумеется, испытало влияние иностранных художественных стилей, однако ничуть не потеряло своей неповторимости.
Скульптурных, а тем более архитектурных памятников хараппской и ведической эпох сохранилось очень мало. Скорее всего, тогдашняя архитектура имела простые и строгие формы, ведь по крайней мере внешне дома Хараппы и Мохенджо-Даро не имели никаких декоративных элементов. Древнейшее искусство скульптуры и глиптики (каменные, терракотовые и бронзовые статуэтки и печати, назначение которых не выяснено, гончарные изделия) развивалось в реалистическом русле и показал высокие художественные вкусы его создателей.
Расцвет древнеиндийской архитектуры и искусства пришелся на эпоху Мауро и на "золотой век Гуптов".
В эпоху первых индийских империй в стране осуществлялось интенсивное дворцовое строительство, однако царские дворцы строились из дерева и поэтому не сохранились. Тогда же расцвела буддийская храмовая архитектура, которая была, в отличие от дворцовой, каменной, так отчасти сохранилась. Древнейшие ее достопримечательности - ступы, в которых хранились буддийские реликвии (части тела Будды и буддийских святых). Куполообразная ступа, прообразом которой был, пожалуй, земляной могильный холм, символизировала пустоту, недолговечности и иллюзорность земного бытия (снаружи ступа похожа на водяную пузырь, что возникает сразу же лопается во время дождя).
В III в. н. е. вблизи ступ и мест кремации буддийских святых началось строительство скальных храмов чайтья и монастырских келий вихара. Они вырубались в скале методом "внутренней резьбы»: сначала вырубалось помещения, а затем в его стенах - скульптурные изображения Будды и святых. Фасад храма по всей плоскости украшался рельефами, колоннами, особыми "солнечными окнами", через которые дневной свет проникал в храм. Когда храм становился тесным для монахов, рядом с ним вырубали новые пещеры, в результате чего возникали целые пещерные комплексы.
Один из древнейших храмовых комплексов (он, кстати, лучше всего сохранился) возведен в Карли, к юго-востоку от современного Бомбея. Но самым известным храмовым комплексом является Аджанта в Махараштре - 29 скальных пещер в гористом обрамлении реки Вахуары. Аджанта прославилась благодаря своим замечательным росписям, о которых речь пойдет отдельно.
Расцвело в древних индийских империях также искусство скульптуры. Скульпторы воспроизводили в камне сюжеты из джатак (они, в частности, доминируют на резных воротах-Торан ступы в Санчи), вырезали статуи якш и якшини - божков плодородия, охранников бога богатства Кубера.
В южной столице Кушанской империи - Матхуре, где сложилась самостоятельная художественная школа, скульпторам охотно позировали для создания статуй якшини местные куртизанки, которые принимали участие в финансировании строительства алтарей и храмов. Такие статуи уже мало что роднило с мифическими образами якшини, в них доминировала эротика. Скульпторы из Матхуры вообще любили украшать храмы изящными эротическими сценами, рядом с которыми эротика других художественных школ давности выглядит убого. Каменная порнография отдельных индийских храмов порождена сильным сексуальным мистицизмом индийских религий, от которых искусство полностью зависело.
В маурийского период возникла традиция сооружения в местах, связанных с биографией Будды, и на путях паломников буддийским святыням резных колонн стамбхи.
В первые века нашей эры в Гандхара под влиянием эллинистических художественных традиций сложилась местная художественная школа, которую называют "греко-будцийською" или просто гандхарською. Она отличалась переносом буддийских сюжетов в греко-римскую пластика. Именно в Гандхара впервые появилась (вероятнее всего, в I в. Н. Э.) Иконография Будды, заступила изображения буддийских символов: "колеса закона» (чакра), "священного дерева" (бодхи), "зонт", ступней, трона и тому подобное. Будду изображали с его 32 каноническими признакам: оттянуты мочки ушей, характерная выпуклость на темени (признак высшей мудрости), метка между бровями (символ великой духовной силы), короткие волосы на голове, скрученные в локоны (символизировали движение солнца и вечность), нимб и т.д. . Лицо Будды максимально идеализувалося. Был разработан сложную символику положений рук и пальцев (мудра): каждый жест бога-то символизировал. Будду изображали в трех канонических позах: сидячей (в глубокой медитации), стоячей (Будда собирается произносить проповедь) и лежащей (момент перехода в нирвану). Махаянисты считали, что чем больше статуя Будды, тем лучше она передает величие божества (и сильнее влияет на верующих), поэтому нередко создавали каменные и медные колоссы, рядом с которыми древнеегипетские колоссы выдавались бы не такими уж и величественными. В эпоху Гуптов скульпторы изображали отдельных богов многорукий и многоногие, пытаясь таким образом передать их сверхчеловеческую силу и могущество.
Большое количество ценных предметов искусства, является наследием этой удивительной древней цивилизации, хранится в музеях. К ним можно отнести множество древних текстов религиозного содержания, поэзию и прозу, живописные изображения и множество икон, могольского миниатюры, представляющие собой иллюстрации к книгам, а также посуда, украшения, оружие, ковры, ткани, уникальные лаковые изделия, изделия из бронзы и металла и предметы быта. Большой вклад в сохранение сокровищ и памятников архитектуры Индии внес русский художник Рерих. Позже его инициативу поддержал сын Святослав Рерих, который способствовал в свое время заключения Международного пакта о охране культурных ценностей.
У европейцев и жителей Америки во время упоминания об Индии возникают стойкие ассоциации. Это Болливуд, йога, строгие традиции, непоколебимые семейные ценности и потрясающей красоты украшения. Индийские украшения с обилием драгоценностей, золотом и серебром высшей пробы, замысловатым дизайном "говорят" народными мотивами, пользуются огромным успехом во всем мире. Индийская ювелирная культура оказала большое влияние на европейскую, подтверждением этого служат лучшие украшения Британской Короны, которые либо выполнены в индийском стиле, или украшенные большим количеством индийских камней. Компания Cartier еще в начале XX века прониклась духом индийской цивилизации и теперь периодически выпускает коллекции, выдержанные в этой тематике.
Индийские махараджи, осуществляя долгие путешествия в Европу и Америку, привозили свои причудливые украшения, благодаря чему мастера-ювелиры стали учиться выполнять сложную филигранную работу с драгоценными камнями, изготавливая украшения в индийском стиле. Европейские жители, влюбившись в восточные напевы индийских украшений, стали требовать у местных мастеров делать их на заказ. Так Индия нашла свое окно в Европу.
Изделия из полудрагоценных камней. В индийских украшений есть свои отличительные особенности, которые делают их узнаваемыми и уникальными. Эти изделия симметричны. Несмотря на многообразие камней разных цветов и сочетание различных материалов, у них нет никакого беспорядка. Праздничное жизни индейцев тесно связано с танцами, а украшения всегда были частью торжественного костюма. Поэтому они обладают своим звучанием и музыкальностью.
Индия - страна со своими ювелирными традициями, которые передаются через поколения. Каждый город, где занимаются ювелирным ремеслом, специализируется на определенном виде работ. Знаменитый Джайпур славится искусством работы с эмалью, Андхра-Прадеш известен работой по серебру, Дели - оправкой драгоценностей. В каждом таком городе есть свой золотой базар, и, несмотря на высокую цену чистого золота и серебра, индийские ювелиры никогда не экономят и не скупятся на обилие деталей из этих драгоценных металлов.
Индийские украшения изготавливаются из золота, серебра, фаянса, слоновой кости, керамики, меди, бронзы, драгоценных и полудрагоценных камней. их находили в разных местах при раскопках, и с тех пор в каждом городе есть свои ювелирные особенности.
Традиции и современность индийского ювелирного искусства. В Джайпуре и Дели родились стиле Менакари и Кундали. Менакари - это искусство эмали - традиционное индийское ремесло. Эмаль накладывалась на украшение, чтобы проверить качество золота. Чем ярче сияет эмалированное украшение, тем лучше золото использовано.
Кундали - самый древний способ изготовления украшений из золота в Индии. Стиль менакундан представляет собой настоящие произведения искусства разных цветов, представленные на обратной стороне украшения, тогда как стиль кун дала демонстрируется на передней стороне. Современные драгоценности в этих стилях делают мастера в Биканере и Раджастане. Они привлекательны своей исторической аурой, которая возвращает нас во времена, когда такая роскошь была доступна только богатым представителям голубых кровей.
Одни из самых простых индийских украшений без использования камней - золотые браслеты, бусы, серьги, подвески, представляющие собой несколько рядов плоских деталей, брусков, скрепленных между собой тончайшими нитями.
Индийское искусство славится своими традиционными мотивами, которые отражены и в ювелирном мастерстве. Особенно часто прибегают к цветочной и животной тематики. Эти украшения являются своего рода талисманами, так как здесь не преследуется только декоративная цель. Каждый цветок и каждое животное олицетворяют пожелания владельцу, предохраняют его от несчастья, приносят богатство, плодородие, удачу. Даже в недорогом браслете не найдётся случайного рисунка - все продумано до мелочей.
Украшение с Индостана - это национальные традиции, соединенные с роскошью, к которой тянется другой мир. Россыпь драгоценных камней на шее или скромные серьги - остается выбирать на свой вкус, возможности и подходящий случай.
Резьба по дереву. Когда в XVI веке монголы вторглись в Индию, то их ждала встреча с одной из старейших мировых цивилизаций. Около 3000 лет до н. е. город Мохенджодаро в долине Инда имел регулярную планировку; большинство сооружений из-за значительной влажность была выполнена из обожженного кирпича.
Жаркий климат требовал устройства внутренних двориков, которые окружали пространстве покои.
Примерно в IV веке до н. е. художественные формы претерпели значительные изменения. Греческие элементы смешались с индийскими, в результате чего возникли новые своеобразные формы. В этот период изменились и мебель. Широкое распространение получило низкое примитивное койко-каркас на четырех ножках с пропущенными через них опорами. При этом плоскость для лежания была плетеной. Такие кровати, изготовленные из дорогого материала, всегда были пышно украшены. Характерный индийское изделие - табурет с выточенными и покрытыми лаком ножками и плетеным сиденьем.
В Индии, богатой различными смолами, была высоко развита техника лакирования, а также применение смол для декоративных целей. Одним из методов было лакирование цветными лаками, которые достаточно быстро высыхали. В основном это использовалось для выточенных элементов мебели. Отдельные небольшие элементы мебели и ящики изготавливались из папье-маше и лакировались достаточно сложным способом. Для украшения мебели применялась интарсия из черного дерева, перламутра, слоновой кости (бомбейская мозаика), а также резьба по слоновой кости.
О непритязательности индусов свидетельствует простой переносной "мебельное изделие" - опора для тела: факир, который сидит на корточках, опирается руками и головой на подставку и спокойно спит. Однако индусы хорошо знали и что такое комфорт. Об этом свидетельствует, например, церемониальное кресло буддийского монаха, напоминающее по своей конструкции древний индийский трон.
Современный индийский стиль мебели. Позже, когда в Индии сказалось влияние Европы, появились новые потребности, которые оживили тысячелетнее мастерство индусов. Возник новый, смешанный стиль. В XIX веке в Европе нашлось много любителей индийской мебели, которые чаще всего покупалась через их пышный и экзотический декор. Прежде всего ценились мебель, украшенная Бомбейская мозаикой. Все это привело к оживлению индийского мебельного искусства. Новые индийская мебель хотя и начали приобретать европейские формы, но благодаря большому количеству индийско-арабской орнаментике сохранили характерный национальный характер.
Индийский стиль мебели, несмотря на необычные и чужие нам черты, интересен и очень декоративен. Наряду с тщательной проработкой деталей на нас прежде всего производит впечатление страсть азиатских народов к помпезности и сложной орнаментике, что не всегда органически связано с назначением того или иного изделия.
Наиболее характерными для современного индийского стиля цветами являются бирюзовый, малиновый, оранжевый. Причем они совершенно неповторимые в своем роде. Индийский шелк немного шероховатый и на ощупь не такой гладкий и скользящий, как китайский. Мебель в индийских домах низкая, выпиленная вручную из тика, очень прочного дерева.
Характерной особенностью индийского интерьера легкая трансформация деталей дома: стульчики и столы, ширмы, ставни и двери часто "меняются ролями". Жители Индии использовали любую возможность для орнаментики и отделки своего жилища.
Пышная ажурная резьба в индийском мебельном искусстве - это свидетельство особой страсти индусов к роскошной декора и украшений.
Итак, художественное ремесло Индии - одно из древнейших в мире. Народные ремесленники достигли необыкновенного мастерства в ткачестве, обработке металла. Особенно славились они чеканкой, резьбой по металлу, филигранью, инкрустацией, резьбой по дереву и кости, изготовлением лаковых изделий. Кустарные ремесла были распространены не только в городах, но и в сельской местности, где в зависимости от природных условий или наличия какого-либо вида материала (слоновая кость, ценные породы дерева) процветал тот или иной вид прикладного искусства. Всемирную известность получили кашмирская шерсть, эмали Джайпура, слоновая кость Траванкор-Кочина и др.
Глубоко народным видом искусства является вибиванкы - хлопчатобумажные ткани, на которых деревянными штампами отражаются многофигурные сцены (музыканты, танцовщицы, плетеные животных, целые сцены из крестьянской жизни), которые поражают своей яркостью, жизнерадостностью и декоративностью. В вибиванках нашли отражение фольклорные легенды и верования Индии, колорит ее богатой тропической природы. Шелковая парча ручной работы с золотой или серебряной нитью, которая предназначена для высших каст, поражает изяществом и тонкостью рисунка, нежными цветными комбинациями, благородством орнамента.
Большого разнообразия форм и орнаментации достигло изготовление утвари (посуды) из бронзы, меди и стали.
Древнейшие виды народного творчества - резьба по дереву и кости - были распространены во многих областях Индии. Из дерева производились резная мебель, архитектурные детали, ларцы, шкатулки, статуэтки. С слоновых бивней народные мастера делали целые композиции или скульптуры, изображавшие божества и героев эпоса, а также ювелирные изделия.
Архитектура и инженерно-строительное дело, украшение интерьера и организация ландшафта заняли в ренессансной культуре видающееся место. Меняются приемы строительства, планировка и убранство жилищ.
В простых домах за счет внутренних перегородок увеличивается число комнат. В городах и в родовых усадьбах сооружаются целые дворцы в ренессансном стиле. Развитие абсолютистского режима было неразрывно связано с сооружением замков-резиденций короля и одновременно фортификационных объектов. Распространение ренессансных идей в архитектуре повлекло разработку проектов «идеальных» зданий и целых поселений. Появляются привозные, переводные, местные трактаты по архитектуре и строительству. Из-за границы, главным образом из Нидерландов, выписываются выдающиеся мастера разных специальностей: Адриан де Фриес, Ханс ван Стеенвинкель Старший (ок.1550-1601) и его сыновья - Лоренс, Ханс, Мортенс, а также Ханс ван Оберберк и др. Скандинавы заимствовали образцы архитектурного стиля из Германии, Нидерландов, Италии, Франции. Датская ренессансная архитектура с ее краснокирпичным колоритом, массивными прямоугольными зданиями и ненавязчивым декором обычно ориентировалась на северогерманское зодчество.
Наивысшего взлета строительство в Дании достигло за 60-летнее правление Кристиана IV, особенно до 1617 г. Оно шло одновременно в разных направлениях. Строились целые города с новой планировкой и регулярной застройкой-геометрической или радиальной формы. Всего по инициативе короля появилось 14 новых городов - в Сконе, Зеландии, Южной Ютландии, Норвегии.
347
Возводились могучие крепости: Фредериксборг в Хиллереде (1602- 1625), Кронборг в Хельсингере и др., которые включали замок, служебные помещения, склады и казармы, были окружены валами, рвами и бастионами. Король сам хорошо разбирался в зодчестве и контролировал возведение сооружений. Планомерная застройка в XVII в. совершенно изменила облик Копенгагена и значительно расширила его размеры. Были выстроены или заложены при Кристиане IV дворец, военный порт, ренессансная Биржа (1619-1625). Архитекторы Л. и X. ван Стеенвинкель получили задание построить ее как «храм новой экономической политики». В результате строительного энтузиазма Копенгаген превратился в XVII в. в одну из красивейших столиц Европы. Здесь соседствуют разные стилистические линии: готика, маньеризм, нарождающееся барокко.
В Швеции этот период также отмечен переделкой старых и возведением новых зданий. В ренессансном стиле возводятся замки Грипсхольма, Вадстены и Упсалы, дворцы, ратуши и частные дома в городах. Церковное строительство, напротив, претерпевает спад.
Постройкам того времени соответствовало богатое убранство интерьеров, более пышное в Швеции, более сдержанное в Дании: сундуки-скамьи, секретеры, шкафы. Деревянная мебель и панели покрывались сложнейшей сюжетной живописью или резьбой на библейские и светские сюжеты, уставлялись изделиями из дорогих камней и металлов, фаянса, дерева. Стены увешивались оригинальными светскими шпалерами, массой портретов, картинами. В залах, дворах и садах появляются скульптуры, нередко целые группы, обычно в антично-мифологическом духе. Сложилась особая мода на расписные и фигурные печные изразцы, а также печи из железа и чугуна, с литой резьбой.
К инженерно-строительным новшествам того времени можно отнести водопровод: в замках и дворцах появились трубы с кранами, сложные фонтаны. Украшением дворцов и замков занимались как отдельные мастера, так и целые мастерские. Сочетание западноевропейского влияния, особенно из Нидерландов и Германии, и местных традиций образовало неповторимые по стилю образцы.
В этот период искусство имело прежде всего прикладной характер. Как важная часть интерьера оно служило для выражения и закрепления престижа. Отсюда, например, - необыкновенное распространение в то время пышных эпитафий, парадных портретов (скульптурных и живописных), аллегорических изображений.
Самым импозантным и престижным видом искусства была скульптура, расцвет которой произошел позднее, с утверждением барокко. Большинство скульпторов были иностранцами, выполнявшими преимущественно заказы короля. «Королевский строитель» Ханс Стеенвинкель руководил созданием ряда скульптурных ком-
348
позиций для фонтанов. По заказу Кристиана IV в Амстердаме делал скульптуры Хендрик де Кейзер. Знаменитый фонтан «Нептун» во Фредериксборге изготовил голландец Адриан де Фриес (1546- 1626).
Большое распространение получили барельефы, преимущественно надгробные, но также декоративные.
Интерес к изображению человека, в частности к семейным портретам, стал и одной из особенностей живописи этого периода. Нередко портреты делались все еще по старым образцам: статично, условно, без психологической характеристики. Вошедшие в моду парадные изображения государей и членов их семей - торжественные, с символами власти - с XVII в. были выдержаны чаще всего в манере классицизма. Период характеризует также и обилие портретов городских патрициев и ученых; все они демонстрируют черные одеяния и знаки своих занятий. Пожалуй, самый ранний портрет ученого-бюргера - изображение гуманиста Веделя (1578). Выразителен портрет семьи родмана из Фленсборга (1591), где вокруг распятия стоят он сам, две его жены и 14 детей. Сам родман, одна из жен и четверо детей, как уже покойные, отмечены крестом над головой. В такой же манере сделаны и некоторые другие семейные портреты-эпитафии бюргеров. Соединение мертвых и живых, несомненно, отражает представления того времени о единстве жизни и смерти, о неразрывной связи двух миров. Авторы названных портретов неизвестны, анонимно выполнено вообще большинство портретов бюргеров и провинциального дворянства Напротив, королевское семейство и знать прибегали к услугам известных мастеров. Примерно 200 портретов царственных и знатных особ написал голландец Якоб ван Доордт, множество - голландец Иост Верхейден.
Постепенно в Дании складывается новый тип художника - образованного и культурного человека, достаточно богатого и близкого к ученым-гуманистам, нередко потомственного художника и коллекционера. Таким был, в частности, плодовитый портретист, голландец Карел ван Мандер, автопортрет которого с женой и тещей - редкое для того времени изображение художника-интеллигента. Примерно такой же была художническая семья Исаакз, которая внесла заметный вклад в культуру датского Ренессанса; ее основатель - потомок эмигранта из Амстердама, торговец произведениями искусства, а один из внуков-гуманист и историк Иоганн Понтанус. Среди художников были особые специалисты по историческим полотнам, по церковной живописи и т.д., но большинство имело широкую специализацию.
Важным видом декоративного искусства были тогда гобелены, как привозные, так и местные, эскизы для которых делали видные
349
художники, а изготовление осуществлялось в заграничных или датских дворцовых мастерских.
В тогдашнем декоре, как уже отмечалось, заметное место занимала резьба по дереву, традиционная и развитая в Скандинавии. В церквах украшались резьбой алтари, где изображались сцены из Библии, а также сюжеты классических авторов, характерные для датского Ренессанса. Резьбой с готическим и ренессансным орнаментом со светскими сюжетами украшалась мебель в жилищах. В Норвегии и Финляндии больших успехов достигла народная деревянная резьба, украшавшая провинциальные постройки и бытовые предметы.
The Village продолжает пропагандировать эффективное самообразование. На этой неделе мы вместе с экспертами разбираемся, какие книги и журналы читать, что смотреть и где учиться, чтобы самостоятельно подкрепить свои сведения об архитектурных направлениях или подготовиться к получению соответствующего образования.
Александр Острогорский
преподаватель МАРШ, руководитель отдела образовательных программ Музея Москвы, архитектурный журналист
Архитектура вообще , как вообще музыка или вообще наука - слишком большое поле для интереса, чтобы указать только один подход к нему. Если только вашим первым шагом не становится именно это - изучение пространства архитектуры и поиск в нём своего интереса, своего любимого сюжета. Архитекторы и критики уже несколько сотен лет подряд начинают делать это с формулы, выдуманной римским архитектором Витрувием, который в I веке до н. э. написал свои «10 книг об архитектуре », в которых указал на три главных свойства архитектуры - пользу, прочность и красоту. Хотя с тех пор прошло уже больше 2 тысяч лет, кажется, что лучшего определения не было придумано. Эти три критерия - и способ оценить любое здание, и направления для совершенствования собственной способности понимать архитектуру. То есть видеть, как одни здания одновременно и полезны, и прочны, и красивы (одно вытекает из другого), а другие здания - нет (впрочем, это не всегда однозначно плохо).
Мне пришлось встречаться с несколькими, возможно универсальными, мотивами, которые побуждают человека интересоваться архитектурой, - хотя, конечно, это только мой опыт. Но предпочту отталкиваться скорее от общечеловеческих представлений о том, что даёт архитектура или почему она важна, чем от порой очень разных взглядов самих архитекторов, структуры архитектурного образования или представлений критиков. Говорю об этом, чтобы заранее попросить прощения у тех читателей, чьи интересы окажутся вне схемы, которой я собираюсь воспользоваться, или же тех, у кого уже есть собственная или привычная для него схема, которая ему или ей кажется идеальной (а моя покажется еретической).
Итак, по отношению к архитектуре всех людей можно разделить на тех, кому...
...нравятся красивые вещи. Красота - наверное, самая сложная категория для архитектуры. Во-первых, архитектура - не миметическое искусство, то есть здания ничего не изображают (исключения встречаются, хотя и нечасто), так что «удовольствие от узнавания», которое Аристотель считал основой эстетического удовольствия, здесь не возникает. Как и в музыке, красота в архитектуре - это ритм, пропорции, отношения форм, цвета и материала.
Знаменитый немецко-английский историк архитектуры и критик Николас Певснер как-то сказал: «Навес для велосипедов - это строение, Линкольнский собор - архитектура». Иначе говоря, всякая архитектура - здание, но не всякое здание - архитектура. Сейчас уже найдётся немало охотников поспорить с этим утверждением, но некоторая доля правды в этой мысли есть: архитектура начинается там, где создатели здания - будь то известный архитектор или безымянные каменщики - попытались пойти дальше, чем решение практических задач. Вопрос в том, куда именно они захотели пойти, почему и что придумали. На эти вопросы более или менее отвечает история и теория архитектуры. Каждая эпоха, каждая страна и традиция предлагала свои программы и наборы инструментов. Далеко не всё нам кажется интуитивно «красивым» сегодня - мы судим о египетских пирамидах совсем не так, как о памятниках Возрождения, а современная архитектура многим кажется однообразной и безликой.
Велик соблазн определить ценность зданий из одних эпох по отношению к зданиям из совсем других, особенно если они стоят рядом, как это бывает в городе. Что ж, вкус - дело каждого, одним нравятся колонны классических фасадов, другим - ленточные окна конструктивистских. Но нельзя забывать о том, что они являются результатом разных ситуаций, и мерить их одной меркой не совсем верно. Удивительно и другое (впрочем, так и с любым другим искусством) - чем больше узнаёшь о том, как думали и к чему стремились зодчие разных эпох, тем шире становится коридор индивидуальных вкусовых предпочтений.
...нравится история. Архитектура в большей степени, чем любое другое искусство, является живым свидетелем истории. Каждое здание - продукт своего времени, пересечение социальных, политических, культурных и технологических явлений. Расшифровать здание как послание в будущее, как запись в летописи - значит решить увлекательный ребус. Как ни странно, здесь предложенная Певснером формула работает скорее наоборот - невзрачные, утилитарные объекты говорят иногда о своём времени больше, чем шедевры архитектуры. Сравните хрущёвку и, например, Дворец пионеров на Воробьёвых горах - только вместе они могут дать правильное впечатление о советской культуре и жизни в 60-х. Чудом сохранившийся на Варварке Старый английский двор - по сути, палаты зажиточного горожанина XV века - лучше иллюстрирует московскую жизнь того времени, чем находящаяся совсем рядом Грановитая палата, построенная примерно в это же время для Ивана III итальянскими архитекторами.
...нравятся технологии. Каждое здание - это ещё и решение инженерной, строительной задачки с большим количеством переменных: потребности человека, сила притяжения, свойства материалов, цена, навыки строителей и так далее. Иногда архитектор находит такое решение, которое не мешает эстетике, иногда - приходится бороться с технологией за художественный образ. Что лучше - красивое, но не слишком прочное или достаточно прочное, но не радующее глаз? Бывает и то и другое. Упомянутые выше хрущёвки, как и большая часть советского индустриального домостроения, - результат почти полной победы экономических и строительных технологий над эстетикой. Восхищающие многих выдающимися инженерными решениями проекты Сантьяго Калатравы постоянно упрекают в том, что они не так хорошо работают, как прекрасно выглядят, к тому же обходятся в астрономические суммы. Так или иначе, с конца прошлого века технологии и их возможности стали одной из главных тем архитектуры. Будь то строительство самых высоких зданий (таких как Бурдж-Халифа) или самых экологичных - сегодня для самых крупных архитектурных проектов в мире чаще всего именно технологии становятся основой эстетической программы.
...хочется понять, как устроен мир. Если архитектура помогает узнать о прошлом, то и о настоящем она говорит не меньше. Зачем нужны небоскрёбы? Кто позволяет сносить старые красивые здания и строить на их месте новые, уродливые? Почему одни живут в шикарных особняках, а другие - в трущобах? Все эти вопросы и многие другие, как ни странно, люди часто адресуют именно архитекторам, включая и вечное «кто придумал, скажи, эти пробки». При этом архитекторы имеют совсем не такое большое влияние на развитие города. Архитектура и конкретные здания - это иллюстрации, симптомы и указания на многие проблемы современного мира, а также лаборатория по поиску ответов на них. Если бы существовала клятва Витрувия (как клятва Гиппократа у врачей), то в ней непременно было бы записано, что архитектор обязан быть немножко врачом, учителем, психотерапевтом («разговаривайте с клиентом о его детях» - это совет немецкого архитектора-модерниста Миса ван дер Роэ), полицейским, политиком, экономистом и, конечно же, художником, инженером, строителем и так далее.
Что читать

Что смотреть
«Архитектура как средство коммуникации»

Курс профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадима Басса на «Арзамасе» посвящён сообщениям, которые заключает в себе мировая архитектура. Кроме восьми небольших лекций, как обычно на «Арзамасе», по ссылке можно обнаружить подборку книг об архитектуре, игры и даже один скетч «Монти Пайтона».
«Сколько вести ваше здание, мистер Фостер?»
Документальный фильм о карьере обладателя Притцкеровской и Императорской премий 80-летнего британца Нормана Фостера, спроектировавшего Международный аэропорт в Гонконге, мост «Миллениум» в Лондоне и башню Хёрст в Нью-Йорке.
«Мой архитектор»
Оскаровский номинант, фильм об архитекторе Луисе Кане, снятый его сыном Натаниэлем через много лет после загадочной смерти отца.
«Наброски Фрэнка Гери»
И ещё один документальный фильм о герое архитектуры - на этот раз снятая Сидни Поллаком история жизни пионера деконструктивизма Фрэнка Гери, спроектировавшего знаменитый «танцующий дом» в Праге, музей Гуггенхайма в Бильбао и Музей искусств Вейсмана в Миннеаполисе.
Выступление Алехандро Аравены на TED
Знаменитый чилийский архитектор Алехандро Аравена считает делом своей жизни преодоление социальных барьеров в городах. Для этого он проектирует дома для самых бедных семей, делая эти постройки не только недорогими и удобными, но и выдающимися в архитектурном плане. Аравена стал куратором Венецианской биеннале архитектуры в 2016 году, которая будет посвящена повышению качества застроенной среды и жизни людей.
Выступление Бьярке Ингельса на TED
Бьярке Ингельс - один из самых известных архитекторов нового поколения. Он сочетает в своей архитектуре яркий дизайн и функциональность не в ущерб комфорту. Во время этого выступления он рассказывает о том, как просто можно рассказывать архитектурные сюжеты - например, в виде комиксов.
Базовый курс по истории архитектуры из 24 лекций охватывает период с первых человеческих поселений и до XV века. Заточен в основном на то, чтобы дать студентам общие знания предмета. Все видео дополнены ещё и материалами учебника мировой истории архитектуры.
Где учиться
ГДЕ: лекторий Музея Москвы
СТОИМОСТЬ: бесплатно
Текст и интервью: Катерина Фирсова, Настя Курганская
Иллюстрация: Оля Волк